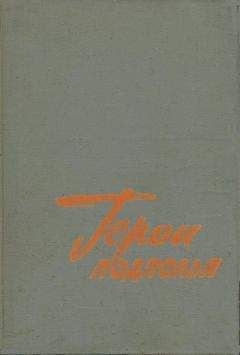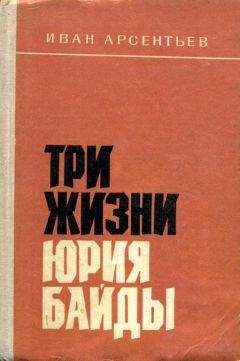Иван Курчавов - Цветы и железо
— Сын у вас хороший.
— Да. Способный, работать любит. Еще успеет много сделать хорошего: сил у него хватит…
— Завидую физически сильным людям, — сказал Огнев, положив на стол руки с покрасневшими пальцами. — Сожалею, Петрович, что в поле или на заводе поработать не пришлось: из школы в институт, из института на комсомольскую работу, с комсомольской — на партийную. В вашем саду, бывало, с удовольствием землю копал.
— Кончайте с фашистами — участок вам отведу, можно каждый день приходить, — сказал старик, поглаживая бородку.
— Именно каждый день! — подхватил Огнев. — Перед завтраком — для аппетита и для того, чтобы не разучиться ценить физический труд. — Он посмотрел на часы, затем на Калачникова: — Времени у меня маловато… Знаете, что я хочу предложить вам, Петр Петрович?
— Что? — насторожился Калачников.
— Нам очень нужна явочная квартира в Шелонске. Хорошо бы вот здесь, в этом доме…
— Пожалуйста, — ответил старик. Огнев заметил, как снова начали дрожать у него руки. — Но вы знаете мое положение: завтра я отвечу отказом сотрудничать с оккупантами и предателями, и они меня расстреляют или повесят. А работать у них я не буду. Я — не Муркин!
— А если мы попросим идти к Хельману на работу? Как тогда, Петрович?
— Вы? — Калачников растерянно развел руками. — Как это можно, чтобы вы предложили такое!
— И я, и подпольный партийный комитет. Тогда легче будет организовать явочную квартиру. И свой человек будет в управе: кое-какие планы гитлеровцев станут известны. Это очень важно, Петрович, очень важно! Вы им принесете на копейку пользы и на тысячу рублей вреда.
Калачников взглянул на Огнева. Он показался ему более строгим и сильным, чем несколько месяцев назад. Сухощавый, лицо молодое; небольшая борода делала его похожим на студента-старшекурсника тех времен, когда студентом был и Петр Калачников. Старик понимал, что несладко там, в партизанских лесах, где и природа не проявляет милости, и опасность сторожит на каждом шагу. А он по-прежнему в ответе не только за себя, но и за весь район. За хорошее похвалят, за плохое взыщут. Пусть будет больше хорошего, чтобы в истории сохранилась запись: правильной жизнью жил Шелонск в дни иноземного нашествия, мал орех, да крепким оказался, не по зубам фашисту!..
Старик был взволнован, но не тем, что предложение Огнева напугало его, нет, оно, наоборот, открывало перед ним перспективу борьбы, деятельности. Тревожило другое…
— Значит, подпольный комитет выбрал меня? — спросил он, заметно волнуясь.
— Да.
— Среди сотен других?
— Да, Петрович! — в тон ему отвечал Огнев.
Калачников протянул через стол морщинистую руку с отчетливо прочерченными синими венами и крепко сжал тонкие, успевшие загрубеть пальцы Огнева.
— Большое спасибо, что по такому делу пришли именно ко мне, — только и проговорил он.
3«Выдержать, ни одним движением не выдать себя!» — думал Калачников, приближаясь к зданию военной комендатуры, куда его сегодня пригласил обер-лейтенант Хельман. Порекомендовал Петру Петровичу поступить на службу к немцам Огнев. Это успокаивало. Его пригласил на работу военный комендант Шелонска — тоже хорошо. А как вести разговор с Хельманом, чтобы ложной интонацией и выражением глаз не выдать себя? Глаза что экран — они передают то, что показывает в эту минуту сердце. А на сердце лютая ненависть к врагу. Но глаза должны быть ласковыми, словно Калачников видит не палачей, а самых добрых друзей.
Настоящие друзья, не знающие об этой игре, отвернутся от Петра Петровича. А многие ли будут знать правду? Огнев да еще два-три особо доверенных лица. Остальные окружат его презрением, и даже двойным презрением: в городе стар и мал знал Калачникова как очень и очень порядочного человека. Если к оккупантам пошел «бывший» человек Муркин или какой-то уголовник, люди покачают головой и скажут: а чего еще можно ждать от такого! А тут сам Калачников. Какой же он, оказывается, подлец!.. И ни слова нельзя сказать людям в свое оправдание, намекнуть на то, что это совершается в интересах большого дела. Его будут презирать, и тех, кто будет это делать, он должен любить, и, чем большая ненависть будет к нему, тем большее уважение должен питать к таким людям Калачников.
Трудная служба, трудная жизнь!..
— Куда же это вы, Петр Петрович?
Он оглянулся. Седой сутуловатый мужчина смотрел на него сочувственно, словно догадываясь, куда и зачем шел Калачников. Петр Петрович знал этого человека много лет. Он был хорошим садовником, но не оригинатором: в его саду росли обычные, «традиционные» яблони и груши, какие высаживали в России наверняка и сто — двести лет назад. На риск он никогда не шел, довольствовался тем, что было, но Петра Петровича уважал…
— Комендант вызывает, — ответил Калачников и пожал плечами.
— И вас? Никого не минуют! Изверги! — в голосе садовода послышалось сочувствие. — Вас-то за что?
— Пока не знаю.
— Хотя бы хорошо кончилось.
— Спасибо.
«Через некоторое время все изменится, — распрощавшись, думал Калачников. — По-другому начнут смотреть, плевать будут вслед!..»
Он постоял на мосту. Речка несла мутные воды, крутя в бешеном водовороте широкие белые щепки. Освобождаясь от водяной петли, они неслись стремительно вперед. На миг Калачников подумал: «Вот и я, как щепка, закрутит меня водоворот событий, а когда освободит — кто знает?»
Как небрежно смонтированные кадры киноленты, мелькнула в сознании собственная жизнь: сын небогатого мещанина Петр Калачников учится в далеком немецком городе… Первые нелегальные книги под подушкой, доносы и грозный окрик начальства: не сметь читать недозволенное… Работа у помещика, робкие попытки селекции и запрет воинствующего мракобеса хозяина: богохульства в природе не потерплю… Увольнение с работы, которое привело к разочарованию в жизни… Революция, а после нее труд — творческий и радостный… Война… Все, о чем мечталось, нарушено… «Работы будет много, Петрович, я верю вам, как самому себе», — сказал на прощание Огнев.
У двухэтажного здания комендатуры Калачникова остановил караульный, уже пожилой солдат с темно-рыжими волосами. Он наставил автомат в грудь садоводу и так держал несколько секунд, словно ему доставляло удовольствие видеть людской страх. К недоумению караульного, старик стал в горделивую позу и произнес повелительным тоном по-немецки:
— Прошу доложить господину коменданту: прибыл профессор Калачников. Господин обер-лейтенант приглашал меня на десять часов. Через две минуты — десять…