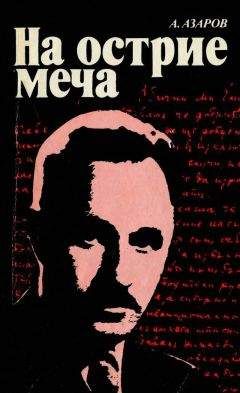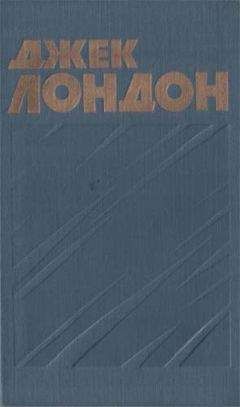Алексей Азаров - Островитянин
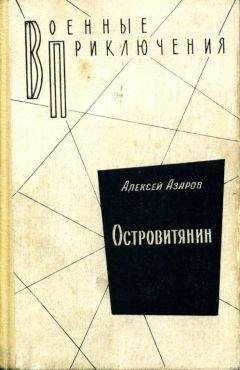
Обзор книги Алексей Азаров - Островитянин
Островитянин
В книгу вошли две повести: «Идите с миром» и «Островитянин». Они объединены одним общим героем — советским разведчиком Слави Багряновым, который под видом коммерсанта из Софии действовал в начале войны в Италии, Франции, гитлеровской Германии и монархо-фашистской Болгарии.
ИДИТЕ С МИРОМ
1
Я ненавижу мелкий дождь. Не то что он действует мне на нервы, но при виде капель, тянущихся по оконному стеклу, у меня возникает озноб. Мир с его серым небом кажется собором, где идет панихида по усопшему. Хочется вынуть платок и промокнуть глаза.
Дождь преследует нас с самой границы. Сначала это была гроза с ударами грома, похожими на бомбежку, потом она перешла в ливень, а сейчас выродилась в мелкую дребедень, которая и не думает сделать передышку. Во всяком случае, до вечера у неба хватит запасов воды — пепельные клочья, плывущие в зените, с каждой минутой все плотнее смыкают строй, сливаются в безнадежную темную тучу.
Отправление затягивается, и я стою на перроне, разглядывая воробьев, прячущихся под навесом. Они мокры и невеселы, и перья у них топорщатся, как иглы. Птицам тоже плохо, и даже крошки булки, брошенные мной на асфальт, не привлекают их внимание. Мне тоже не хочется есть, хотя я еще не завтракал, а ранний вчерашний ужин мой состоял из двух бутербродов с колбасой и чашки жидкого кофе.
Я всегда плохо ем и сплю в дороге.
Усатая итальянка — первое купе, место номер два — прогуливает по перрону сизую от влаги болонку. Болонка брезгливо обходит лужи и нервно зевает, показывая обложенный налетом язык. Судя по налету, у нее должны быть глисты. Я касаюсь пальцами полей шляпы и выдавливаю улыбку.
— Доброе утро, синьора!
— Доброе утро... Почему мы так долго стоим?
— Никто ничего не говорит. Даже радио онемело.
Сначала я думал, что нас держат, чтобы пропустить воинский эшелон. Он грузился у соседней платформы — полтора десятка вагонов третьего класса, один штабной и три открытых с танкетками. Унтер-офицеры со вздыбленными от ваты плечами носились вдоль состава, цукая солдат. Прямо на перроне стояла низкая и длинная зеленая машина с флажком на радиаторе; у водителя, обер-ефрейтора, было лицо профессионального лакея. Стоило только видеть, с какой холуйской миной сорвался он с места, чтобы распахнуть дверцу лимузина перед коротышкой в полковничьих погонах!
Машина, рявкнув, сорвалась с места, унося коротышку в город, а минуту спустя без гудка, почти бесшумно отчалил от платформы эшелон. Унтер-офицеры стояли на площадках, угрюмые, как памятники самим себе.
После этого прошло полчаса, но экспресс Симплон — Восток продолжал ждать чего-то у закрытого семафора. Стоит ли верить проспектам железнодорожной дирекции, рекламирующей «Симплон» как самый лучший из поездов, всегда идущий по расписанию?
Итальянка нежно гладит мокрую болонку.
— Не капризничай, Чина, тебе уже давно пора пи-пи...
Усы у итальянки как у д’Артаньяна, но это не мешает ей кокетничать вовсю. Кажется, она не прочь со мной подружиться — до Милана еще так далеко, а в дороге скучно.
В нашем вагоне пустует половина купе. Война. Сейчас по Европе путешествуют только те, кого гонит в дорогу необходимость. Я тоже, честно говоря, охотнее сидел бы дома или в своей конторе на улице Графа Игнатиева. В такую погоду Мария сварила бы мне крепкого кофе, и я пил бы его из крохотной чашечки — горький, густой, взбадривающий каждый нерв. Кофе с сахаром я не пью.
— Ну же, Чина, делай пи-пи!
Я вздрагиваю и смотрю на итальянку. Она озабочена. Болонка кружится возле моей ноги, прилаживаясь намочить мне на ботинок. Строю милую улыбку и отодвигаюсь. И снова вздрагиваю, ибо черный раструб перронного репродуктора внезапно обретает дар речи! Слова хрустят, как жесть.
— Пассажиров экспресса «Симплон» просят занять места в вагонах! Повторяю: дамы и господа, займите свои места в вагонах! Соблюдайте порядок!
Диктора-немца сменяет итальянец; он говорит то же самое, только мягче, без командных интонаций; третьим объявление читает серб. Д’Артаньян в юбке подхватывает на руки свое мохнатое сокровище и торопится в вагон. Я помогаю ей одолеть ступеньки и удостаиваюсь многообещающей благодарности.
— Грация!
Одно слово, но как оно сказано! Придется, видимо, при случае намекнуть д’Артаньяну на какую-нибудь свою болезнь потяжелее, а до этого постараться как можно реже выходить в коридор и держать дверь на цепочке. И почему это мне всегда так везет? Куда бы я ни ехал и как бы пуст ни был вагон, в нем всегда отыскивается одинокая дама, безошибочно угадывающая во мне холостяка и считающая долгом пустить в ход чары и средства обольщения.
Итальянка наконец скрывается в купе, а я, не теряя времени, почти бегу в другой конец вагона. Мне почему-то кажется, что объявление по радио отнюдь не означает конца затянувшейся остановки и связано с каким-то сюрпризом для пассажиров. Если это так, то лучше будет смирно сидеть на месте, сменив обычную обувь на теплые домашние туфли без задников и погрузившись в чтение детективного романа.
Так я и делаю; заодно достаю с верхней полки верблюжий халат и набрасываю его поверх пиджака. Согревшись, закуриваю и жду.
Тихие шаги в коридоре. Негромко брошенная фраза, в которой мелким и сухим горошком прокатывается буква «р», и вслед за проводником в коричневой курточке через порог купе перешагивает Вешалка с обвисающим с плечиков костюмом. Костюм черный, в скромную тонкую полоску. Сюрприз, хотя и не тот, о котором я думал.
Вешалка складывается пополам и опускается на диванчик напротив. Загромождая проход, на коврик укладывается желтый кожаный кофр — весь в ремнях, как полицейский на смотре, — а рядом с кофром протягиваются две жерди в брюках, такие длинные, что проводник, выходя, едва не спотыкается о них.
— Мерзкая погода, — говорит Вешалка вместо приветствия. — Э?
Я соглашаюсь:
— Совсем не похоже на лето...
У Вешалки четкий берлинский акцент и серые волосы. Не сразу поймешь, что это — естественная окраска или седина. Нахожу необходимым представиться:
— Слави Багрянов. Коммерсант.
— Фон Кольвиц.
И все. Ни имени, ни профессии. Так и должно быть: для немца, да еще обладателя приставки «фон» перед фамилией, болгарский торговец — парвеню, неровня. Тем лучше, путешествие пройдет без утомительной дорожной болтовни, после которой чувствуешь себя обворованным.
Фон Кольвиц, грея, потирает ладони. Пальцы у него сухие, узкие; на мизинце правой руки перстень с квадратным темным камнем. Банковский служащий высокого ранга или промышленник? Не следует ли предложить ему сигарету?