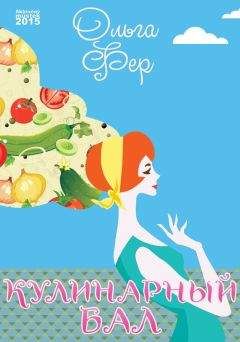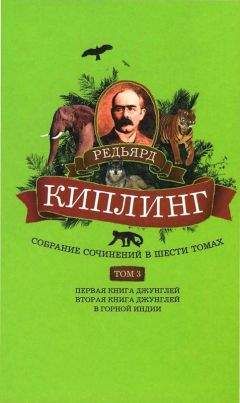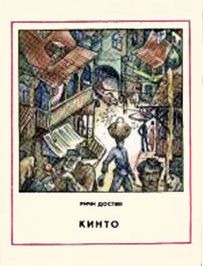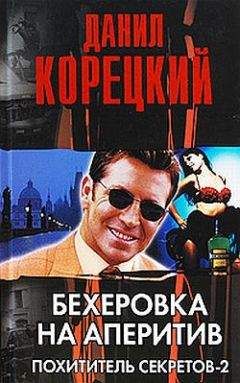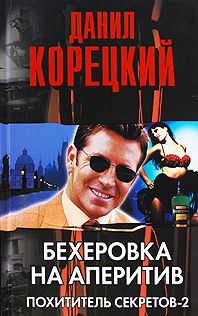Редьярд Киплинг - Книги джунглей
— Что это с ним? — спросил Котуко, которому отчего-то сделалось не по себе.
— Это хворь, — ответил Кадлу. — Собачья хворь.
Котуко-пёс задрал голову и жалобно завыл.
— Я такого никогда не видел. Что будет дальше? — сказал Котуко.
Кадлу слегка пожал плечами и пошёл к тому месту, где лежало охотничье оружие. Но не успел он взять в руки короткий гарпун, как Котуко-пёс, почуяв недоброе, с воем кинулся вон. Собаки в коридоре шарахнулись в стороны, давая ему дорогу. Выскочив наружу, пёс яростно залаял, словно взял след крупного зверя, и, нелепо подпрыгивая на бегу, скрылся из виду. Он не заболел бешенством, которое иначе называется водобоязнью: он просто-напросто сошёл с ума[87]. Голод, стужа, а главное — мрак привели к тому, что пёс потерял рассудок. Стоит захворать кому-то из упряжки — и болезнь начнёт распространяться неудержимо, как лесной пожар. На другой день опасные признаки появились ещё у одной собаки: она начала кусаться и биться в постромках, и Котуко тут же прикончил её. Немного погодя большой чёрный пёс, бывший вожак, вдруг залаял: ему почудилось, будто он напал на след оленя; но когда его отстегнули от главного ремня, он яростно кинулся на ближайший торос с намереньем вцепиться ему в горло — и, по примеру молодого вожака, тоже удрал, унося на спине свою сбрую. После этого собак запрягать перестали. Собаки могли понадобиться для другого, и они это знали; и хотя хозяева держали их на привязи и кормили из рук, в собачьих глазах явственно читались страх и отчаяние. К тому же старые женщины принялись пугать всех сказками о призраках и объявили, что им уже являлись духи охотников, погибших прошей осенью, и что духи эти предрекали всевозможные беды и напасти.
Котуко больше всего страдал от потери любимой собаки, потому что инуиты, хотя едят они чудовищно много, умеют и подолгу голодать. Но нехватка пищи, темнота и постоянное пребывание на морозе подорвали силы мальчика; ему стали слышаться какие-то загадочные голоса и мерещиться люди, которых на самом деле не было. Как-то вечером, после бесплодного десятичасового сидения в засаде, Котуко выпутался из перевязки и, пошатываясь, побрёл обратно к дому. Голова у него кружилась, и, боясь потерять сознание, он прислонился спиной к большому валуну. Камень чуть держался на остром ледяном выступе, и когда его зыбкое равновесие нарушилось, грохнулся вниз, так мальчик едва успел отскочить, и с пронзительным скрежетом покатился по льду. Этого было достаточно. Котуко с детства внушили веру в то, что в каждом камне — особенно большом — живёт его хозяин, инуа, которого эскимосы представляют обычно в виде одноглазого женоподобного существа — торнак. Если такая торнак надумает помочь человеку, она покатит свой каменный дом ему вслед и спросит, согласен ли он на её покровительство. (Летом, когда лёд тает, крупные и мелкие валуны, лишившись опоры, срываются с места и перекатываются во всех направлениях — поэтому легко понять, откуда взялась легенда о «живых камнях».) В ушах у Котуко, как и весь предыдущий день, стучала кровь, а он решил, что слышит голос духа камня. Пока он добирался до дому, он окончательно уверился, что имел длинную беседу с торнак, а поскольку все его родичи допускали такую возможность, возражать ему никто не стал.
— Она мне сказала: «Я выйду, я выйду из каменного дома, я выйду на снег!» — кричал Котуко, подавшись вперёд и обводя еле освещённую хижину запавшими глазами. — Она сказала: «Я поведу тебя». Она сказала: «Я покажу тебе хорошие тюленьи места». Завтра я отправляюсь. Торнак поведёт меня.
Тут в хижину вошёл ангекок, местный шаман, и Котуко ещё раз рассказал всё с самого начала — и от повторения его история только выиграла.
— Торнаит (духи камней) знают, куда вести. Иди за ними и добудь для нас еды, — решил шаман.
Девочка-северянка, которая жила в доме Кадлу, все последние дни лежала у очага. Она совсем мало ела, а говорила и того меньше. Но когда на другое утро родители снарядили для Котуко небольшие сани и погрузили в них его охотничью снасть, а в придачу столько мороженого мяса и жира, сколько могли уделить из своих скудных запасов, девочка вышла из хижины и храбро взялась за лямку саней.
— Твой дом — мой дом, — объявила она, шагая плечом к плечу с Котуко в непроглядной тьме полярной ночи, а сани на полозьях из мороженой кости скрипели и подпрыгивали позади.
— Мой дом — твой дом, — согласился Котуко, — но я думаю, что мы оба попадём к Седне.
Седна в инуитских поверьях — владычица преисподней; считается, что каждый человек после смерти ровно год обязан пробыть в её страшном подземном царстве: только тогда он попадёт в Квадлипармиут — Блаженный Край, где не бывает морозов и где самые жирные олени прибегают к вам по первому зову.
Жители посёлка кричали друг другу:
— Духи камней говорили с Котуко. Они покажут ему чистый лёд. Он привезёт нам большого тюленя!
Голоса ещё долго раздавались им вслед, но мало-помалу затихли, и Котуко с северянкой остались одни в холодной тёмной пустоте. Они дружно тянули тяжёлые сани или, напрягая все силы, перетаскивали их через бугры и впадины, и шаг за шагом продвигались в сторону Северного Ледовитого океана. Котуко уверял, что его новообретенная покровительница, торнак, велела ему идти на север; туда они и шли, а им указывали звёзды — Туктукджунг, Созвездие Северных Оленей, то самое, что мы зовём Большой Медведицей. Ни один европеец не смог бы проделать пяти миль в сутки по этому скоплению глыб и острых, как нож, обледенелых сугробов; но Котуко и его спутница умели с поразительной точностью, одним движением руки, обвести сани вокруг тороса, одним рывком перенести их через трещину во льду и знали, как одним-двумя рассчитанными ударами копья проложить дорогу сквозь ледяной затор, если другого способа продвинуться вперёд уже не оставалось. Девочка шла молча, упрямо наклонив голову, так что росомашья шерсть, которой был оторочен капюшон, наполовину закрывала её смуглое скуластое лицо. Небо над ними было как чёрный бархат, и только ближе к горизонту виднелись полосы багрянца — там светились, точно уличные фонари, большие звезды. Время от времени по высокому, пустому небосводу прокатывалась зеленоватая волна полярного сияния, вздуваясь и опадая, как флаг на ветру; или из темноты в темноту проносился одинокий метеор, оставляя за собой снопы огненных искр. В такие мгновения вздыбленная, изборождённая поверхность льда преображалась и расцвечивалась самыми невероятными оттенками — красным, медно-жёлтым, голубым; но в остальное время, при свете одних только далёких звёзд, все вокруг казалось сплошной окаменелой серой массой. Как вы помните, во время сентябрьских штормов лёд у берега был весь разбит и искорёжен, и теперь пейзаж напоминал застывшее землетрясение. Везде зияли выбоины, расщелины и даже целые провалы величиной с хороший каменный карьер; повсюду громоздились исполинские торосы и глыбы помельче, примёрзшие к некогда ровному ледяному полю; там и сям темнели вкрапления прошлогоднего льда, занесённого сюда осенней бурей; и на каждом шагу путников подстерегали то ледяные валуны, то острые, зазубренные гребни, то овраги, хотя и неглубокие — всего футов пять-шесть, — но зато невероятной протяжённости, до трёх и даже четырёх десятков акров. Торосы попадались самой причудливой формы: иные на расстоянии легко было принять за тюленя, моржа, за перевёрнутые сани, или за кучку заблудившихся охотников, или, наконец, за наводящий ужас Дух Белого Медведя о десяти ногах; и чудилось, что все эти видения вот-вот оживут, — а между тем вокруг царило полное безмолвие: ни звука, ни намёка на звук. И в этом безмолвии, в этом безлюдье, где только изредка вспыхивали сполохи, две жалкие людские фигурки, которые ползли вперёд, таща за собою сани, казались частью кошмарного сна — так можно представить себе конец света на краю света.