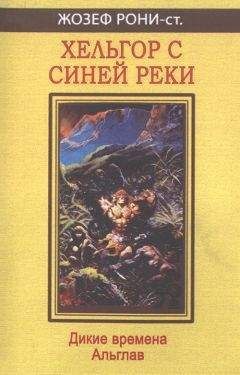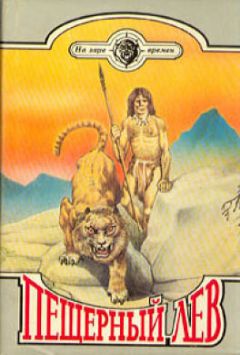Павел Кренев - Успокойсь
— Ой, Саша, ой ты, ради Христа… А не живая, а?
— Да не, говорю — кокнул, — устало ответил понурый Шурка и махнул рукой.
Мишка отдышался, взял на всякий случай топор, отрывисто глотнул воздуха и вышел в сени. Какое-то время он повозился там, потом зашел в избу, присел на чурбан к печке, помолчал. Он заметно успокоился.
— А сколько их было-то? Этот-то кабудь котенок.
— Ничего себе котенок, — Шурка возбужденно хмыкнул, — а с дерева на меня прыгнуть хотел. Пришлось стрелить. Потом иду, зырюсь на деревья с перепугу-то, ан — еще одна, как собака по размерам, на суку сидит, чуть не над самой башкой, тоже скакнуть хочет. Страхи божьи.
Колюха чувствовал, что Шурка в чем-то завирает. Надо же, рыси на него напали, сроду такого в деревне не было. Но страх у Шурки неподдельный, это точно, да и рысенок в пестере. Что-то произошло, значит.
— Дак что ж ты другую-то не подстрелил?
— Ишь смелой какой. «Не подстрели-ил», — Шурка до обидности похоже умел передразнивать Колюху. — Сам-то стал бы пулять мелкой дробью, когда она — как теленок, а когтяры — во! — Для убедительности Шурка граблисто скрючил свои толстые пальцы. — Стрелил, конечно, да только в воздух.
— А рысь чего? — не без сомнения поинтересовался Колюха.
— Пугнулась, в лес ускочила, зараза.
Михаил представил, как потом шел по лесу Шурка, как боялся, что из-за любого куста на спину может прыгнуть рысь, и испытал к нему невольное сочувствие.
Когда попили чаю и сидели, откинувшись на койках, Колюха вдруг спросил у успокоившегося Шурки:
— А другая-то случаем не мамаша того, что в сенях лежит?
— Какая другая?
— Дак которая прыгнуть-то, говоришь, хотела.
— Не-е, она в другом месте встренулась, километра полтора, — голос у Шурки дрогнул.
— Ну и што полтора… Обошла да подкараулила, только бы мильнул[9] Шурка… С еенными-то зубьями…
— Типун тебе на язык, да второй под язык. Ты што, она ведь не отвяжется теперь.
— А я про што… — поддержал его, вместо того чтобы успокоить, Мишка Колюха, — за котенка и подкараулить может. Рыси, они злопамятны, читал я…
— «Читал», — особенно едко передразнил его Шурка, — ты книжку-то хоть раз видел?
Ночь была лунной. Шурка долго слушал тяжелый, давно уже привычный, но сегодня изнуряющий храп напарника и не спал: ему надо было сходить на улицу. Но снаружи была ночь, там где-то ходила и искала убитого рысенка мать, хищная, огромная, полная желания отомстить… Зачем он убил его? Блажь какая, дернул же черт. Сейчас бы спал давно. Смешно, за дверь теперь не выйти… По окошкам и стенам гулял немного подтихший «полуночник», посвистывал в щелях, шуршал выбитым из пазов мхом, будто кто-то тихонько скребся и стонал. Жуть.
— Миша, стань, а, на улицу мне надо. — Шурка еще растолкал Колюху, тот наконец поднялся, чертыхаясь и бранясь.
Вместе с ним Шурка вышел на улицу, спустился на берег и устроился в бревнах, Михаил остался на крыльце. Было слышно, как он переминался там и постукивал со сна зубами. Скоро озябнув, крякнул и стукнул дверью, ушел в избу. Шурка остался один.
Над ним выгнулся густо пересыпанный звездными искрами черный августовский небосвод. С юго-востока к нему приклеилась обдутая ночным свежим ветром, четко вырезанная двурогая яркая луна. Ущербная, она давала меньше, чем обычно, света, лунная дорожка на море из-за шторма кривлялась и дробилась. Но когда на небе луна, все веселее, и Шурке сделалось не так страшно. Он уже собирался уходить, когда на бревно метрах в десяти от него выползла тень. Ее очертания исковеркала разбитая лунная дорожка — она как раз оказалась фоном, — но Шурка на этот раз распознал бы ее и в полной темноте.
Рысь! Ноги понесли сами, одеться он не успел. Так и вбежал в избу. Колюха насмерть перепугался и, услышав слово «рысь», вскочил с койки, Шуркиного вида будто и не заметил.
Рысь дала о себе знать почти сразу, заскреблась в дверь. Колюха прибавил в керосинке фитиль и от возбуждения задышал глубоко и часто, Шурка трясущимися руками разломил ружье, вставил в него патрон с пулей, припасенный еще днем. Затаились. Рысь мягко топталась на крыльце и царапала дверные доски.
Михаил и Шурка не поверили ушам и переглянулись, когда с крыльца донеслось мяуканье, отчетливое и настойчивое.
— P-разве они, ето, как и к-коты? — от нервного перенапряжения Колюха опять стал заикаться.
— Не-не знай, — не получилось и у Шурки.
Помолчали, мяуканье стало совсем жалостливым и даже канючим. «Мяа-ай, ма-а-ай…» — вытягивал зверь на крыльце.
— На нашего Левонтия походит вроде, — неуверенно предположил Колюха.
Знаменитый своими размерами сибирский кот Левонтий, принадлежащий Колюхиной тетке Федоре, и впрямь имел привычку разгуливать по тоням и выклянчивать у рыбаков свежую рыбу. Наведывался в прошлом году и на Песчанку.
Потом, когда, распознанный и впущенный в избу, Левонтий хрумчал в углу рыбными костями, когда нервное напряжение спало, Михаил начал кататься по койке и хохотать над происшедшим, над Шуркиным видом, с которым тот влетел в избу. Шурка смеялся тоже.
С утра «полуночник» слег, уступил море «западу», тот вылизал и утихомирил воду, погнал от берега мелкую рябь. Рыбаки заметали семужий невод. С дальней тони в деревню шла дорка[10], и Шурка бросил в нее мешок с рысенком. Попросил передать отцу, может, чего-нибудь сообразит со шкурой. Поначалу он хотел закопать рысенка в песок, но Михаил отговорил: рысь, говорит, повадится, будет раскапывать. А так увезли и концы, стало быть, в воду.
5
Ночь, звездная, высокая и ветреная, обдала прохладой ранней осени, выветрила острый страх, который родила встреча с Человеком. Страх уступил место страсти, неуемному стремлению к встрече с сыном. Рысь всю ночь провела в логове, где стоял густой, живой запах Рысенка, запах их семьи. От нелепости и вероломства всего того, что произошло накануне, она не могла заснуть, только дрожала и в полузабытьи бесцельно бродила вокруг пустого логова.
Утром Рысь пошла искать своего сына. Она верила, что сможет освободить его из плена Человека.
Запах двуногого и запах Рысенка за ночь выветрился и уже не стоял в воздухе такой терпкой стеной, как это было вчера, но у самой земли, в переплетении листьев, травы и кореньев, он остался таким же сильным и бил по обонянию острой настоянностью, ужасным осознанием того, что два они — родной запах сына и враждебный Человека — оказались столь близко друг от друга, смешались. Потом запах Рысенка исчез, остался дух человечьих следов, торопливых, широких, ясно видимых на забрызганной росой тропинке. Дух этот отталкивал и пугал, Рысь старалась бежать не прямо по следам, а вдоль них, боясь только пропустить следы Рысенка, он мог вырваться, ускользнуть от Человека и прыгнуть куда-нибудь за кусты.