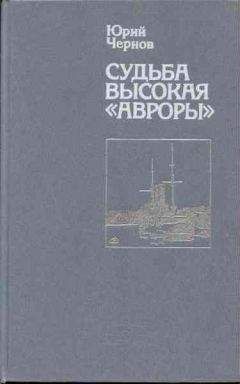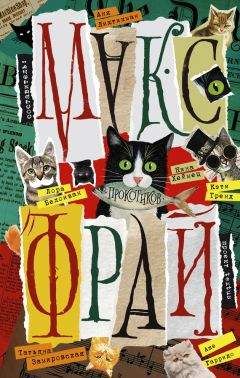Юрий Чернов - Верное сердце Фрама
Первого атакующего Фрам сбил своей широкой грудью и загрыз бы — помешали ремни. Второму досталось тоже несладко — он отскочил, скуля и обливаясь кровью.
Но в своре было собак пятнадцать-семнадцать. Кто-то уже вцепился в заднюю лапу Фрама. Две или три дворняги наскакивали с боков.
Воевала вся упряжка. Пирату оторвали ухо. Варнак повалил и рвал в клочья грязно-коричневого кобеля.
Перед Фрамом корчилась на снегу архангельская лайка с распоротым брюхом, но и он был уже не на шутку изранен — глаз затёк, хрустнула кость на задней лапе, морда была в крови.
Люди подоспели не быстро. Теряя сознание, как во сне, Фрам слышал их голоса, видел начальника, поднявшего его на руки и бросившего Линнику:
— Кажется, живой.
Больше Фрам ничего не помнил.
IV
Начальник экспедиции Георгий Яковлевич Седов принес Фрама к себе в каюту. В укромном углу он постелил палаточный брезент и, уложив умирающего пса, велел позвать судового лекаря.
Доктор грузно присел на корточки, ощупал кости, посмотрел на лужицу крови, натекшую на брезент, безучастно крутнул головой:
— Скотина, наверное, сдохнет.
— Это не скотина! — Седов раздраженно повысил голос. — Это ездовая собака, Павел Григорьевич.
Почувствовав, что рассердил начальника, доктор засуетился, промыл Фраму затекший глаз, смазал раны, перевязал заднюю лапу; приподнял голову, но едва отпустил — она безжизненно свалилась на брезент.
— Разрешите пса убрать отсюда?
Начальник поднял злые глаза и махнул рукой: идите, мол. Лекарь удалился. Седов постоял возле Фрама в тягостном раздумье. Тело собаки едва заметно колыхалось от слабого дыхания. Она даже не скулила от боли.
Георгий Яковлевич отошел к столу. Его удручало не только то, что лучший пес из упряжки, может быть, никогда не подымется на ноги, его угнетала мысль о непригодности половины купленных собак. А без собак рухнет все предприятие! Не людям же тащить нарты к полюсу…
Минувший день встал перед ним во всех подробностях: и как не клеилось дело с упряжкой, и как Фрам отстоял свое право быть вожаком, и как уверенно повел тобольских лаек. И, наконец, кровавая грызня собак, первые жертвы…
Что же делать с этими архангельскими дворнягами? Ждать, пока не сожрут весь корм и не перекалечат ездовых лаек? Не избавиться ли от них? Или все-таки попытаться обучить их езде в упряжке?
Седов с тоской посмотрел на Фрама, словно от него одного зависело, дойдут ли нарты до Северного полюса.
Фрам жалобно заскулил, приоткрыл глаза. Глаза смотрели как сквозь туман: он не мог понять, где находится, чья фигура склонилась над ним и кто вливает ему в рот теплую струю мясного бульона…
V
Седов вЫходил Фрама. Пес медленно пошел на поправку.
Первые дни он лежал молча, лишь глазами следя за Георгием Яковлевичем. Потом, едва раздавались за дверью знакомые шаги, начинал повизгивать и вертеть хвостом. Особенно Фрам любил класть морду на колени Седова и стоять не шевелясь, пока большая рука разглаживала шерсть, водила по белоснежной морде, обходя свежий затянутый грубой коркой рубец.
В отличие от комнатных собак, сибирские лайки не избалованы ни человеческой лаской, ни теплом. Нелегкая жизнь под открытым небом, постоянная борьба за существование сделали их полудикими. Но однажды Фрам лизнул руку Георгия Яковлевича. Это было высшее проявление нежности растревоженного собачьего сердца. При этом он виновато-влюбленно смотрел на Седова, а глаза его, влажные от слез, выражали беспредельную преданность.
— Ну ладно, ну ладно, ведь все обошлось, наладилось, — смущенно произнес Седов, растроганный поведением собаки.
На воздухе выздоровление пошло еще быстрее. Поначалу на прогулках Фрам чувствовал слабость, пьянел от морозного запаха снега и с трудом поспевал за Седовым, легко скользившим на лыжах. Но скоро это прошло, он настолько окреп, что хозяин решил его взять в небольшое путешествие.
Стояла лунная полярная ночь. В такие ночи луна кажется необыкновенно яркой. Она так отчетливо выделяется на темновато-белесом пологе неба, будто врезана в него. И хотя света много, им залита укатанная ветрами снежная равнина, — свет какой-то мягкий, рассеянный. Мороз еще некрепкий — градусов двадцать, ветер стих, лучшей погоды и не придумаешь. Настроение у Фрама хорошее, хозяин рядом — чего же еще?
Настроение испортил Линник. Запрягая собак, на место вожака он поставил Пирата, а его, Фрама, словно забыл, упорно не замечал, всецело отдаваясь хлопотам возле нарт.
Фрам, конечно, не мог позволить, чтобы его лишили законного места. Он взглянул на хозяина — тот спокойно стоял на лыжах, чего-то ожидая, — перевел взгляд на Пирата и предостерегающе зарычал.
Пират уступал Фраму в росте, грудь у него была уже, но он отличался завидной выносливостью и дерзостью. В той знаменитой драке с архангельской сворой Пират показал себя отличным бойцом. В память о потасовке у него болтались клочья разорванного уха.
Словом, Пират не собирался без боя уступать позиции и в ответ на рычание вызывающе оскалил клыки.
Видимо, секунды отделяли их от схватки, потому что лапы Фрама напружинились для прыжка, и тут — о, как это получилось не вовремя! — его окликнул хозяин.
— Ну, не сердись, — попросил хозяин. — Пусть пока поработает Пират. Это временно. Окрепнешь, тогда и займешь свое место.
Хозяин похлопал Фрама по холке и, оттолкнувшись палками лыж, позвал:
— За мной!
По крепкому насту равнины бежать было легко. В лунном сиянии светился снег. Он, видно, слежался, стал плотным, потому что лыжи хозяина оставляли еле заметный след.
Упряжка шла по следу, немного отставая. Фрам время от времени забегал вперед или в сторону, чтобы осмотреть и обнюхать торос, оставить на льду желтую струйку. Упряжка норовила свернуть за ним, но строгий Линник покрикивал: «Я тебе, Пират!» — и заносил над собаками длинный остол.
От хозяина шел пар, он утирал на ходу лоб, да и Фрам дышал все чаще и все больше высовывал язык, на бегу прихватывая снег.
Погода менялась. На луну наползла туча. Сразу стало темно. Спустя минуту луна снова показалась в разрывах тучи, но это была уже не та луна — она походила на бледный, почти белый диск, утонувший в клубах дыма.
Седов с Фрамом взобрался на высокий торос, чтобы оглядеть местность, а упряжке дал сигнал остановиться. Километрах в двух от тороса виднелась темная гладь — очевидно, открылась вода.
Набежал ветерок. Не ветер, а ветерок — нервный, торопливый, словно из дальней дали пришло тревожное предостережение.