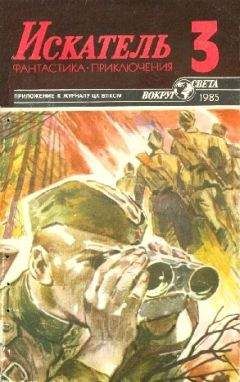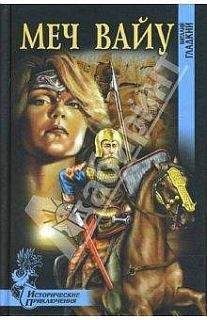Виталий Гладкий - Жестокая охота
Нахмурившись, Любченко три раза нажал на клаксон; густой вибрирующий звук взметнулся ввысь и сразу же растворился в метельном дыхании южного ветра. Приветствие ушедшим, дань памяти…
— Скушно… — женщина капризно надула губы. — И долго мы будем… трали-вали?
— Осталось немного… — Григорий посмотрел на спидометр. — Километров двадцать пять.
— А, я не о том… — в голосе женщины звучала досада. — Останови здесь! — вдруг решительно приказала она, похлопав Любченко по колену.
Григорий опешил и резко затормозил. Женщина придвинулась к нему вплотную и обняла за шею.
— Ну… — шепнула ему на ухо. — Что же ты…
— Я… ничего… — Любченко попытался отстраниться, но она держала цепко. — Остановил.
— Кудрявенький… — женщина взъерошила нолосы Григория. — Глупышка, несмышленыш… Посмотри на меня…
Она неуловимо быстрым движением сняла блузку и приспустила плечики комбинации.
— Дай… — женщина схватила руку Григория и прижала ее к своей обнаженной груди. — Сожми покрепче… Ну-у…
Любченко с такой поспешностью отдернул руку, будто ее прижгли каленым железом. Только теперь он сообразил, какого пассажира ему подсунул Лубок.
— Что с тобой? Миленький…
— Оденься, — Григорий смотрел угрюмо, зло. — Не нужно.
— Дурашка… — женщина снова попыталась обнять его, но Григорий резко оттолкнул ее.
— Перестань! — крикнул он срывающимся голосом. — Ты!..
— Никак, червонец жалко? — презрительно покривила полные губы женщина. — Или в кармане пусто? Так и скажи. Могу в долг.
— Хватит! — оборвал ее Григории. — Одевайся, иначе… Иначе высажу здесь.
— Не шуми. Моралист… — Женщина принялась торопливо натягивать блузку. — И этот… охломон черный… тоже хорош гусь. Говорит, парень что надо. А я, дура, губы развесила. Пролетела, как фанера над Парижем. Поехали, водило…
До прииска они даже словом не перемолвились. Любченко выжимал все, что мог, ехал на предельно допустимой скорости. Он чувствовал себя скованно, неловко; на душе было гадко, будто он сделал что-то нехорошее, постыдное.
Остановив машину на въезде в небольшой приисковый поселок, Григорий достал деньги и сунул их в карман шубы.
— Выходи… — сказал, даже не посмотрев в сторону женщины.
— И на том спасибо, — невозмутимо ответила она. — Ты, оказывается, из благородных. Редкий фрукт.
И, уже стоя на земле, выкрикнула с ненавистью:
— Все вы одинаковые, все! Никому не верю! Не ве-рю!!!
Она кричала еще что-то, но Любченко уже не слышал ее слов — захлопнув дверку, он с яростью нажал на акселератор, и “КамАЗ”, взревев басовито мотором, свернул в проулок…
Метель утихла, небо просветлело, очистилось до прозрачной акварельной голубизны. Погруженный в невеселые раздумья, Любченко хмуро смотрел на дорогу — вспоминал…
Старый, обветшалый клуб АТП, построенный еще в начале пятидесятых годов заключенными, в новогодний вечер преображался. Деревянные колонны, напоминающие своим видом шахтную крепь, были обвиты зелеными ветками стланика и разноцветными гирляндами; потрескавшуюся штукатурку прикрывали полотнищами с нарисованными зверюшками, красноносым Снеговиком и повидавшим немало на своем холщевом веку Дедом Морозом, лицо которого из-за многочисленных подкрасок стало похожим на мятый перезрелый помидор. Елка в центре зала медленно вращалась, роняя на давно некрашеный пол хлопья ваты, и подмигивала фонариками танцующим. В фойе толпились подвыпившие водители, встречая шутками опоздавших женщин и девушек. Играл инструментальный ансамбль, собранный по принципу “с миру по нитке” — не очень складно, зато громко.
“Разрешите?” — она смотрела весело, с вызовом. Обомлевший Григорий только кивнул в ответ и покорно поплелся за нею в круг. Музыканты исполняли “белый танец”, о чем громогласно вещала в захрипший микрофон дородная раскрасневшаяся завклубом: “Дамы приглашают кавалеров! Девочки, мальчики, активней, активней!”
Танцевал Григорий неважно, а потому старался держаться поближе к елке, где была толпа: там за неимением свободного пространства просто топтались на месте. “Вы новенький? Раньше я вас не видела”. — “Да, в общем… недавно…” — “Почему без дамы?” — “Никто не любит”, — отшутился избитым выражением, понемногу смелея и ощущая хмельную приподнятость от прикосновений к ее горячему, упругому телу. “Ая-яй, как вас мне жалко…” — дурашливо погладила его по щеке…
Новый год они встречали в одной компании. Утром в общежитие она его не пустила, устроила на диване в своей уютной двухкомнатной квартире. А через две недели он перебрался к ней с вещами.
У Ларисы (так ее звали) была пятилетняя дочь от первого брака, хрупкая болезненная девочка, похожая на мать — такая же голубоглазая, белокурая, с аккуратным носиком — пуговкой. Муж Ларисы жил где-то на “материке”. Григорий не расспрашивал о причинах развода, стеснялся. Она тоже избегала этой темы. Иногда Лариса получала от мужа письма, и тогда надолго замыкалась в себе, становилась задумчивой, а временами — раздражительной. В таких случаях Григорий, если был не в рейсе, пропадал до ночи в гараже — ревновал, мучился, изводил себя домыслами. Но проходил день-другой, и снова ее ласки возвращали ему то приподнятое, радужное настроение, которое пришло в новогоднюю ночь и которого он в своей жизни еще не испытывал.
Так прожили они в полном согласии два с половиной года. Григорий пытался узаконить их отношения, но Лариса только отшучивалась, говорила, что это сделать никогда не поздно и что брачное свидетельство — не залог семейного счастья. Весной нынешнего года она достала для дочери путевку в санаторий — девочка по-прежнему часто болела, и врачи посоветовали морской воздух и грязи. Григорий провожал их в аэропорт с тяжелым чувством…
Письма от Ларисы приходили редко — торопливые, суховатые, сдержанные. А в сентябре Григория огорошила инспектор отдела кадров прииска, где Лариса работала бухгалтером, — она прислала заявление на расчет.
Месяц Любченко ходил как потерянный. Лариса в письме объяснила причину своего решения — все из-за дочери, ей нужно длительное лечение и более мягкий климат, нежели на Колыме, Просила выслать денег— поиздержалась. Написала, что ждет его в следующем году, когда у Григория будет отпуск. Деньги он отправил телеграфным переводом, но жить в ее квартире, которую она забронировала на полгода, не стал, возвратился в общежитие — сердцем чувствовал, что пришел конец его, как оказалось, мимолетному счастью.
И вот вчера очередное письмо: “Прости и пойми меня — у дочери должен быть отец. Родной отец… Я, одна я виновата…”