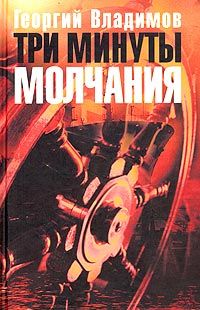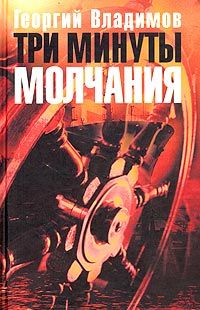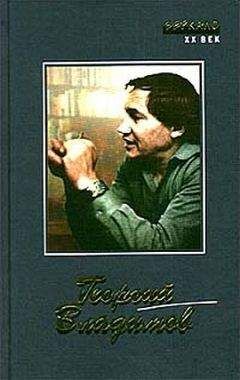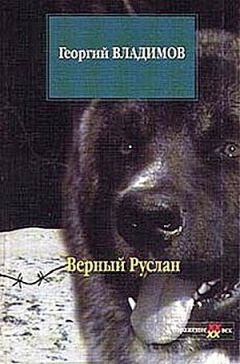Три минуты молчания. Снегирь - Владимов Георгий Николаевич
Один шпиль не справился, врубили ещё стояночную лебёдку и ещё «сушилку», которая между мачтами растянута, на ней мы сети сушим, и сетевыборка его тащила.
В общем, все машинки, какие только есть на пароходе. Кто-то даже якорный брашпиль предложил приспособить, но побоялись цепью китёнка покалечить. Да мы и так его вытащили – и машинками, и руками тащили за подбору – сперва хвост, потом всё остальное. Молочный-то он молочный, но зверь будь здоров, хвост у него с одного борта свешивается, а головой он лежал на другом. Сети мы на нём обрезали, растащили, а он себе полёживал, иногда лишь подрагивал кожей. Да мало сказать – подрагивал, от этого все лючины скрипели на трюме. Кто-то догадался – поливать его забортной водой, чтоб шкура не сохла, специально вахтенного к нему приставили. И китёнок совсем успокоился, только посвистывал дыхалом. Красивых он был цветов – сверху чёрно-синий, а к брюху постепенно светлел. И что удивительно – все твари в море холодные, а к нему прикоснёшься – как будто лошадь гладишь по морде, возле ноздрей.
Но что ж теперь делать с ним? Распеленали, а как обратно стащить в море? Это надо стрелу иметь с вылетом за борт, а такой на СРТ нет. Все работы на пароходе прекратились, рыбу не ищем, сетей не мечем: палуба китёнком занята. И не пройти никак, не перепрыгнуть. Пытались через него лазить, но он от этого начинал беситься, сбрасывал с себя людей. Пришлось боцману из досок трап сколотить, и мы по нему бегали через китёнка – из кубрика в салон, из салона в кубрик. Тут кто-то мысль подал: «А давайте его на базу вместо селёдки сдадим, в нём же тонн восемь будет весу. Он нам план порушил, он же нам его и выполнит. Всё равно без базы мы его не смайнаем».
А уже на всех судах заметили, что мы китёнка везём, то и дело нашего «маркони» запрашивают: «Куда тащите кита? В этом возрасте охота на них запрещена, конвенции не знаете?» Насчёт конвенции мы как-то не учли. Ну, мы же не китобои, дела с ней не имели. Кеп расстроился: «Выловил кита на свою голову». Но делать-то нечего, всё равно к базе идти – у неё машина, у неё стрелы. Чем ближе к базе, тем больше вокруг нас собиралось народу – французов, норвежцев, англичан, фарерцев. Штук восемьдесят судов за нами увязалось, все про свою селёдку забыли, один китёнок и беспокоит. А он – полёживает и посвистывает, не знает ни про какую конвенцию. Когда уже подходили к базе, наперерез нам вышел норвежский крейсер и три вертолёта висели в небе – наверно, фотографировали нас с воздуха.
С крейсера приказали нам:
– Немедленно выпустите кита в море.
– Только об этом и мечтаем. Да снять не можем.
– Как же он оказался на борту?
– Сами удивляемся!
Я помню то утро, когда мы пришвартовались. Штиль был полнейший, ветер едва шевелил флажки на мачтах; синее небо, синяя вода, солнце – как в июле в Крыму. И всё море – в судах, всех флагов суда, и в небе ещё висели вертолёты. С базы нам подали шкентель, и мы китёнка рифовым узлом обвязали за хвост. Крейсер нам ещё посоветовал мешковину подложить, чтоб не поранить ему шкурку. И стрела его потащила в небо.
Тут он проснулся, китёнок, стал рваться, весь извивался в петле. А мы под ним быстренько отшвартовывались и отходили, очищали море. Потом с базы отдали риф, узел развязался, и китёнок наш сиганул в воду. Тут же вынырнул, взметнул хвостом, всплеск нам устроил – выше клотика. И ушёл на глубину. И что тут такое сделалось – «ура» на всех пароходах, гудки, ракеты полетели в небо!
Этот день был как праздник, честно вам говорю. Он и сам был хороший – такой синий и солнечный. И китёнок был хороший. И мы все тогда были людьми.
Фонарь мне светил в лицо. Я зажмурился, отвёл его рукой. Может, и этот мне приснился – маленький, в дождевике, в островерхом капюшоне.
– Мёртвый час! – говорит он. – А кто вахту стоять будет?
Я по голосу узнал – третий.
– Буров у вас где спит?
– Зачем он тебе?
– «Зачем»! Вопросики задаёшь. На руль!
Я протёр глаза кулаком.
– Какой может быть руль? У нас хода нет.
– Ты что, спишь? Или ушки болят?
Я прислушался – и вправду что-то переменилось. Мелко стучит брошенная дверь. Чей-то сапог от вибрации ползает по полу.
– Починил «дед» машину?
– Кашляет. Всё равно не выгребает. Так где артельный ваш?
– Зачем же его будить, если я не сплю?
– А он что, больной?
– Не всё тебе равно? – Я встал на ноги.
– Список есть, понял? Дисциплинка должна быть. Тогда всё нормально, таких бардаков не бывает. Ну, хочешь – иди.
Из капа стало слышнее: машина стучит с перебоями, как будто вот-вот смолкнет. Чуф, чуф, чш-ш… Чуф, чуф, чш-ш…
– Тоже мне работа! – сказал третий. – Смех!
Он вынырнул в темноту и тут же вернулся.
– Э, ты не заснул? Мне за тобой второй раз идти охоты мало.
– Иду.
– Так и пойдёшь в телогрейке? А курточка где?
– Пропала.
– Ну и дурак. Я говорил: махнёмся. У меня б не пропала.
Я пошёл за ним. Спросонья на его дождевик ориентировался. Мы добрались до кухтыльника, вскарабкались по сетке на крыло. Дверь меня толкнула в спину – я полрубки пролетел и повис на штурвале. Потом огляделся – здесь ещё кеп был, Жора-штурман и Граков. В радиорубке сидел «маркони» с наушниками, бормотал в микрофон:
– База, я восемьсот пятнадцатый… Как слышите, база?
Я взялся за шпаги и навалился на штурвал грудью, а ноги расставил пошире. И тогда уже доложился по форме:
– Матрос Шалай. Разрешите заступить?
– Заступил уже, – сказал кеп. – Почему не Буров? Заболел, что ли?
Жора-штурман вместо меня ответил:
– Знаю я, чем он болен. И чем это лечат, тоже знаю. Ну стой, раз вызвался.
Кеп встал у телеграфа, подвигал рукояткой.
– Руль вправо клади, – сказал он мне. – Право на борт. Не стой лагом.
– Есть. – Я положил руля до отказа. Без хода он совсем легко перекладывался. – Право на борту!
Кеп хмыкнул:
– Не разучился!
– Удивительно, – сказал Граков, – как они у тебя вообще не разучились на вахту ходить.
Кеп не ответил, вынул свисток из переговорной трубы, которая в машину, и дунул. Там, внизу, свистнуло. Но никто не подошёл. Кеп заткнул трубу.
– Вымерли они там, что ли?..
Дверь распахнулась, кто-то ввалился и встал у крайнего окна, расставив ноги. Я покосился – «дед» обтирал руки ветошью и смотрел в стекло, заляпанное снегом и пеной.
– Что скажешь? – спросил кеп.
«Дед» ответил, не повернув головы:
– Твоё теперь слово.
– А ход где?
– Пожалуйста.
«Дед» взялся за трубу, свистнул в неё. Там подошли:
– Второй механик слушает.
«Дед» снова стал у окна.
– Алё! – сказали внизу. – Слушаю!
– Скажите на милость! – Кеп подошёл к трубе. – Ну, давай там, подкинь оборотиков. Средним хоть можешь?
«Дед» сказал, не поворачиваясь:
– Средним я ему запретил. Малым может.
– Зачем чинили, спрашивается? Если б ты его не остановил тогда, мы бы уже с базой встретились. Скажешь, опять глупости говорю?
– Опять говоришь.
Кеп вздохнул.
– Ты хоть перед матросом меня не порочь. – И сказал в трубу: – Малым давай назад.
Шпаги мне надавили на ладони. Качка переменилась, пароход приводился кормой к волне.
– За малый тоже тебе спасибо, Сергей Андреич, – сказал Граков. – Теперь хоть шлюпку можно вывести с-наветра.
– Шлюпка-то одна теперь? – спросил «дед».
Кеп ответил – не очень уверенно:
– Вторую – починить можно… Брезентом обтянуть.
– Ну, это когда починим, тогда вторую считать будем. А пока – одна. Так… А кто ж в неё сядет? Граков, кого посадишь в неё?
– Не понимаю вопроса. Есть инструкция, кому в первую очередь.
– Положено – пассажиров.
Граков сказал, усмехаясь:
– Ну, пассажиров-то, собственно, я один. Могу свою очередь уступить.
– Очередь или шлюпку?
– Сергей Андреич, по-моему, ясней ясного: в первую очередь люди постарше. Ну, а помоложе – используют другие плавсредства. Уже какие найдутся. Что тут можно возразить?