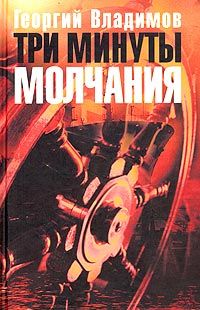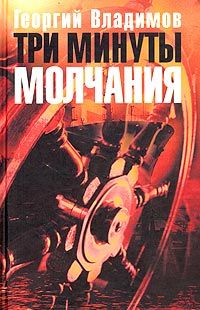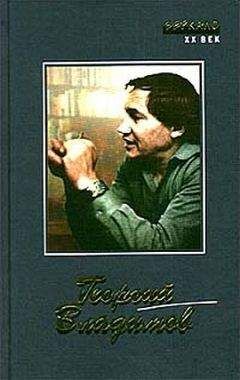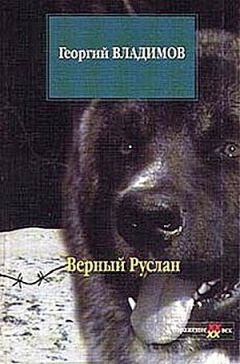Три минуты молчания. Снегирь - Владимов Георгий Николаевич
– Я тебе что-нибудь должна посоветовать?
– Не должна.
– Ты ведь и раньше говорил, что уйдёшь.
– Раньше говорил, а теперь – ухожу.
– Наверное, тебе так будет лучше?
Вот бы и спросить: «А тебе?» Но какая-то немота дурацкая на меня нападала, когда я с ней говорил.
– Учиться мне, что ли, пойти? Тоже дело. – А я ещё и за минуту про это дело не думал, – Только вот куда?
– А тут я тебе и вовсе не советчица. Если даже про себя не могла решить. В своё время я это предоставила решать маме. Наши мамы не всегда же говорят глупости. Вот я никак не могла выбрать после школы – в медицинский или на журналистику. Почему-то все мои подружки шли – или туда, или туда. А мама сказала: «В Рыбный». Почему в Рыбный? «Там нет конкурса». Я бесилась, ревела в подушку, хоронила себя по первой категории. А потом – ничего, успокоилась.
– И теперь не жалеешь?
– А что я, собственно, потеряла? Талантов же никаких. Обыкновенная. Как все.
Только это я от неё и слышал. «Ничего мне не надо, Сенечка. Я – как все». Да всем-то как раз и хочется: одному денег побольше и чтоб работа не пыльная, другому – чтоб ходили под ним и отдавали честь, третьему только семейное счастье подай, дальше трава не расти. А её – ну никак я не мог зацепить, ну всем довольна. Но я-то видел, как ей жилось – в чужом краю, без жилья своего, без грошей особенных, без папы с мамой, – она без них не привыкла, письма писала им чуть не каждый день.
– Что ты вдруг загрустил? – она спросила. И руку мне положила на руку. – Ну, не со мною тебе советоваться, что я в твоей жизни понимаю?
Бог ты мой, если б она знала – всё она мне уже посоветовала. Ещё когда я только увидел её. Не она бы, так я бы всё жил, как живу, и ни о чём не думал, кидал бы гроши направо-налево, путался с кем ни придётся.
– И ты ведь, главное, уже всё решил. Завидую тебе, честное слово. Чувствую твоё блаженное состояние. Может быть, это самое лучшее – не знать, что тебя ждёт впереди.
В окнах почернело, вахтёрша зажгла люстру и пригляделась: чего это мы примолкли на лестнице? А я и не сказал ещё – ради чего пришёл, не смог даже подступиться. Но впереди была «Арктика», там-то хорошо языки развязываются. Там я скажу ей – или потом, когда провожать буду: «Уедем отсюда вместе!» Вот так и брякну. Она спросит: «Куда?» А куда глаза глядят, лишь бы не спросила: «Почему вместе?» Но, наверно, что-нибудь же придёт мне в голову.
Я спросил:
– В «Арктику» не пойдёшь сегодня?
– Знаешь, мои хотят какой-то сабантуй устраивать, прощальный. У меня в комнате. Им же больше негде. Я их в наше общежитие устроила, но там такие строгости, боже мой… И ты приходи, если хочешь.
– Спасибо…
– А почему именно сегодня в «Арктику»?
– Отвальную даю.
– Так полагается по вашим морским законам? А совместить нельзя?
– Никак. Это вещи разные.
– Тогда я, пожалуй, приду. Ну, я постараюсь. А что за компания будет?
– Обыкновенная. Бичи.
– Господи, всюду только и слышишь: «бичи», «бичи», а я ни одного живого бича в глаза не видела. Ты знаешь, я, кажется, всё-таки приду. Как-нибудь отговорюсь. Фактически им же только хата нужна.
– А ты?
– Ну, и я – до определённого градуса. Но вообще-то они вроде грозились дам привести. Долго я с ними не высижу. Ты лучше не заходи за мной, я как-нибудь сама…
Тут как раз он и высунулся, очкарик. И мы притушили свои окурки.
– Лиличка, я всё понимаю, но…
– Да-да, Евгений Серафимович, куда же вы делись?
Он на меня сверкнул стёклышками, я ему сделал ручкой и скинулся по лестнице. Снизу мне слышно было, как он её допрашивал:
– Где же, простите, брат? Это он и есть?
И быстренько она ему заворковала. Это она умела – чтоб на неё не обижались.
Вахтёрша на меня заворчала – где же, мол, метка, шашни тут развели, обманывают старого человека, – а мне её жалко стало: платят с гулькин хрен, и всякая шантрапа вокруг пальца обводит. Я её погладил по голове, а она зашипела и вытолкала меня на улицу.
Из комнаты все разбрелись куда-то. Я повалился на койку вниз лицом, но и минуты не пролежал, как стало укачивать, и пошёл в умывалку смочить голову под краном. Тут-то меня и развезло: будто бы с лица не вода текла, а слёзы, и вправду мне захотелось плакать, бежать к ней обратно на Милицейскую, умолять, чтоб она непременно пришла, а то я напьюсь вусмерть с бичами, и кончится это плохо, даже и представить боюсь как. А с нею мне никто не страшен, мы посидим и уйдём от них, а завтра возьмём билеты. Колёса будут стучать, деревья полетят за окном, все в снегу… Много я ещё городил глупостей, но вот когда она мне начала отвечать, тут я и понял: всё это бред собачий. Я с нею часто так разговаривал, и немота проходила, и оказывалось – она меня с полуслова понимала, отвечала мне, как я и ждал.
Я пошёл обратно в комнату, лежал там без света. А когда перевернулся на спину, луна светила в окно, а на полу снег серебрился и чернели переплёты от оконной рамы. Соседи как будто вернулись, посапывают на койках, это значит – за полночь, в «Арктику» я опоздал, проспал всё на свете! Но кто-то, я слышу, идёт – по длинному-длинному коридору, и отчего-то я знаю: это она ко мне идёт. Мне страшно делается – нельзя же ей сюда! Они же проснутся, шуток потом таких не оберёшься… И вдруг слышу – шарк, шарк, – громадный кто-то, пятиметровый ростом, волочит свои подошвы. И ржёт по-страшному. Она от него кинулась по коридору, а за нею – с топотом, ржанием, с жуткой матерщиной, кошмарные какие-то нелюди, жеребцы, которых убивать надо! Она закричала, побежала быстрее, но от них не убежишь, догнали, повалили, топчут сапожищами. И я хочу крикнуть ребят на помощь, один же я не спасу её, и – не могу крикнуть, меня самого завалили чем-то душным. А там её добивают, затаптывают, и рёгот несётся конский, и вопли, как будто динамик хрипит на всю гавань: «Её больше нету!.. Есть ещё?.. А вот теперь – нету!» Я забился, отодрал голову от подушки…
Господи, а это старуха-уборщица шастала метлой под тумбочками, ставила табуретки на койки ножками кверху. Она мне и удружила, простыню завернула на лицо.
– Нету! – кричит. – Нету меня тут больше – жеребцов обихаживать!
– Чего шумишь, нянечка?
Подскочила ко мне с метлой наперевес.
– Проснулся, сынок? А банки с-под сайры – это дело под тумбочки шибать? Окурки, обгрызки… Плевательницы нету? Коменданту сказала… Пускай, скажу, вас всех в умывалку переселяют. Там себе живите, там себе гадьте, а меня нету!
– Это ты неплохо придумала. Всё равно мы тут временные.
– А, временные! Ну, так и я тоже временная… Закурить не найдётся?
Я ей дал «беломорину».
– Всё! – говорит. – Ушла я на фиг!
И вправду ушла. А я полежал ещё, сердце жутко как колотилось. Совсем я стал никуда, а ведь двадцати шести ещё не стукнуло парню. Но и то спасибо, разбудила к полвосьмому.
Автобуса я не стал дожидаться – сомлеешь в толчее, и завезут к чертям на рога, куда-нибудь в Росту [11], – пошёл своим ходом, чтоб совсем развеяло. А возле «Арктики» уже полно было страждущих, и табличка висела: «Мест свободных нет». Но меня-то гардеробщик углядел сразу:
– Проходи, вот этот, в курточке. У него столик заказан.
Большой он был спец, даром что однорукий. Кого не надо – не пустит, нюхом определит – при деньгах ты сегодня или же на арапа рассчитываешь. И вот тоже талант у человека – никаких вам номерков, всех так помнил – кто в чём пришёл. Выходишь – пожалте вам пальтишко, и не чьё-нибудь, а ваше.
– Ко мне, – говорю ему, – особа должна подойти. Вы меня с нею видели. Каштановая, любит зелёную покраску.
Вспомнил, кивнул. Я ему подал трёшку, он её смахнул в кармашек, снял с меня шапку, отстегнул капюшон.
– С обновочкой вас!
Вот и насчёт курточки усёк, а спроси его, как меня зовут, ушами захлопает.
В зале уже надышано было, накурено, хоть топор вешай. На эстраде четыре чудака старались: скрипка, два саксофона и баян, – снабжали музыкой. Но не качественной, а так себе, «Во поле берёзонька стояла». Бичи мои сидели в углу, держали сдвоенный столик, как долговременную огневую точку, – хоть потёртые, но прикостюмленные, Вовчик даже галстук надел. С ними – Вовчикова Лидка трёхручьёвская и Клавка. Ну, Лидка, скажу вам, очень была не подарок – жилистая и злющая, видать, или просто нервная: всё щипала свой перманент и глазки на лоб заводила. А Клавка – та королевой сидела, кофта на ней широкая, голубая, с перламутровыми пуговками, в ушах золотые серёжки покачивались, и вся-то она розовая была, вся лоснилась и платочком обмахивалась сложенным, вместо веера.