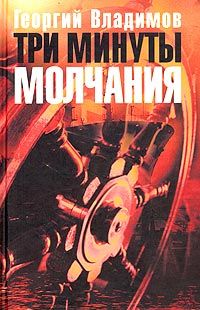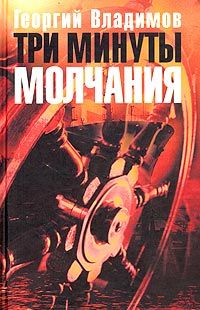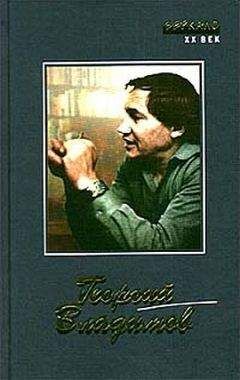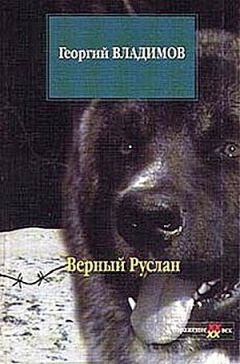Три минуты молчания. Снегирь - Владимов Георгий Николаевич
Бухта открылась – вся сразу, чистая, молочно-голубая. Только если вверх посмотришь и увидишь, как облака проносятся над сопками, почувствуешь, что там творится в Атлантике. Ровными рядами – дома в пять этажей, зелёные, красные, жёлтенькие, все яркие на белом снегу. А поверху – сопки, серые от вереска, снег оттуда ветром сдувает, и как мушиная сыпь – овечьи стада на склонах. Судёнышки у причалов стояли не шелохнувшись, мачта к мачте, как осока у реки – яхточки, ботики, сейнера, реюшки, тут почти у каждой семьи своя посудинка.
Мы шли к середине бухты, к нашей стоянке – по конвенции мы к причалу не швартуемся, в крайнем случае раненого можно доставить шлюпкой. Отсюда видно, как ходят люди, собаки бегают, автомобильчики снуют между домами и по склонам сопок, там поверху проложена шоссейка.
Якоря отдавать – все, конечно, вылезли. Что значит – стоячая вода, сразу спать расхотелось.
Сгрудились на полубаке, Шурка прибежал с руля с биноклем, и все по очереди стали пялиться на берег. Вон рыбачка вышла – бельё на верёвке развесить, вон две кумы встретились и лясы точат, фарерскими сплетнями обмениваются, а нам всё в диковинку.
– А ножки-то, ножки! Швартануться бы, потом бы всю жизнь вспоминал!
– Давай, плыви, кто тебя держит?
– Старпом! А старпом? К причалу не подойдём?
Старпом из рубки тоже в бинокль пялился.
– Какой ты умный! – говорит.
– Да хоть на часик – покуда кепа нету. Никто ж не стукнет.
Ну, на это он и отвечать не стал, будто и не слышал.
В бинокль всё радужно: пёсик бегает по снегу, фарерский пёсик, ластится к своей фарерской хозяйке, а та фарерскими ботиками притоптывает – ботики модные, а холодно в них. Фарерский пацан своего братишку на фарерских саночках катает, шнурки на ушанке болтаются… Почему так тянет на это смотреть? Неужели диво – люди, как и мы, тоже вверх головами ходят? Глупо же мы устроились на земле – вот море, на всех одно, сопки – такие же, как и у нас, бухта – для всех моряков убежище. А не подойдёшь к ним, конец не подашь, не потравишь с этими фарерцами.
– А всё ж, бичи, – сказал Шурка, – в заграницу приехали! Вроде даже и воздух другой.
– Никуда ты не приехал, – Ванька Обод ему угрюмо. – Всё там же ты, в Расее. И воздух тот же самый. Что ты на эту заграницу в бинокль смотришь, это и в кино можно, в порту. Даже виднее.
Вот всегда такой Ванька Обод найдётся – настроение испортить. А солнышко вышло, стало чуть потеплее, потянуло еле слышно весной. На берегу в такие дни хочется в море. А в море – хочется на берег.
– Скидывай рокана, бичи! – сказал Шурка. – Айда все по-береговому оденемся. Теперь уж до порта – ни метать не будем, ни выбирать. А что груза ещё осталось – так его в порту берегаши выгрузят.
Мы поглядели на старпома. Он всё пялился на берег.
– Старпом, – спросил Шурка, – точно ведь в порт идём?
– Будет команда – пойдёшь.
– Это как понимать? Может, ещё и не будет? Остаёмся на промысле? Нет уж, хрена!
Да ведь у старпома прямого слова не выжмешь. Молодой-то он молодой, но первую заповедь начальства железно усвоил: чего не знаешь – показывай, будто знаешь, только говорить об том не положено. Да он, плосконосый, оставят ли его старпомом – и то не знал. Но в бинокль, как генерал, смотрел, план сражения вырабатывал.
– Покамест, – говорит, – ремонтироваться будем.
– Это само собой, – сказал Шурка. – С такой дырищей тоже мало радости до порта шлёпать.
Больше всех ему верилось, Шурке, что в порт уйдём. И не стоялось ему, как жеребёнку в стойле. А если подумать, чего мы там не видели, в порту, кроме снега январского и метелей, кроме «Арктики»? Да и этих-то радостей – на неделю, не столько же мы заработали, чтоб куда-нибудь в отпуск поехать. Но великое же слово – «домой»!
Всё-таки пошли переоделись. Я куртку надел. Вышли на палубу, как на набережную.
– Я теперь ни к чему не прикоснусь, – говорит Шурка. Он в пиджаке вышел, при галстуке. – Дрифтер скажет: «Чмырёв, иди подбору шкерить!» А я ему: «Хрена, сам её шкерь, а я больше не матрос, я пассажир на этом чудном пароходе».
– Сигару – не хочешь? – спросил Серёга.
– Отчего же нет, сэр?
Серёга вытащил «Беломор», мы задымили, облокотились на планширь, сплёвывали на воду. Ни дать ни взять – на прогулочном катере в Ялте.
– Слышь, старпом! – позвал Шурка. – А ты не переживай.
– А чего мне переживать.
Старпом оставил свой бинокль, стоял, как портрет в раме. Невесёлый это был портрет.
– Врёшь, – говорит Шурка. – Переживаешь! И зря. Ну, понизят тебя до второго штурмана, ну там до третьего, годик поплаваешь и опять – в старпомы. Ты же у нас хороший мальчик, дисциплину любишь и начальство тоже.
– Чего это меня понизят? Третьего вахта была, а не моя.
– Ну, чумак, – сказал Серёга. – Он же тебе её передал.
Старпом лоб наморщил. Задумался, как он из этой истории вылезать будет. Решил так:
– Спросят, чья вахта была с двенадцати.
– Не-ет, – Шурка засмеялся, – так не спросят, не рассчитывай. А – «кто на вахте был с двенадцати», вот как. Ты уж на худшее надейся, глядишь – оно и получше обернётся.
– Вахту же передавать не полагается.
– Но ты ж её принял.
– Ну и что? В виде исключения.
– А шляпил – тоже в виде исключения? – но тут же Шурка и смилостивился. – Ну… может, тебя и помилуют, всяко бывает. Но если тебя в матросы разжалуют, тоже не огорчайся. Зато ж какую науку пройдёшь! Сам побичуешь – бичей притеснять не будешь. Ты, первое дело, им спать давай. Не подымай в шесть, подымай в восемь. Никуда рыба из сетей не убежит, а человек – он дороже. Теперь, значит, выходных чтоб было два в неделю. Кто это придумал – в море без выходных? Ты этот порядок отмени, старпом. Не останется страна без рыбы к праздничному столу. Ты к бичам хорошо, и они к тебе хорошо. Усвоил мои советы?
– Ладно.
– Что он там усвоил? – сказал Ванька. – Оставят его на мостике – так же и будет на тебя орать.
Грустно нам что-то сделалось. И просто так стоять надоело.
– Чего делать будем, бичи? – спросил Шурка. – Старпом! У тебя, может, какие распоряжения будут? В последний раз мне твой голос начальственный охота послушать.
– Будут – позову.
– Нет уж, я спать пойду.
Но Шурке и спать было скучно. Такое было весеннее настроение, хоть в самом деле – прыгай с борта, плыви к тому берегу.
– Бичи, – вспомнил Шурка. – А мы же фильмами-то махнулись на базе? Айда покрутим.
Пошли с полубака, покричали в кап:
– Эй, салаги! Кончай ночевать, есть работа на палубе. Фильмы крутить.
Не вылезли. Так устали, что даже на стоячей воде не проснулись.
А фильмы – так себе отхватил «маркони». Один – про какую-то балерину, как ей старая учительница не советует от народа отрываться; погубишь, говорит, свой талант. Мы даже вторую бобину не стали заправлять. Другой поставили – про сектантов, как они девку одну охмуряют, а комсомольская организация бездействует. Потом, конечно, новый секретарь приезжает, и от этих сектантов только перья летят. Но там одно место можно было посмотреть – как этот новый секретарь влюбляется в эту охмурённую девку, и она, конечно, взаимно, только ужасно боится своих сектантов, и он ей внушает насчёт радостей любви, в таком это симпатичном берёзовом перелеске, и берёзки эти кружатся, и облака над ними вальс танцуют. Мы эту бобину два раза прокрутили. «Юноша», который из камбузного окна смотрел, попросил даже в третий раз поставить, да нам есть захотелось. И пробоина больше нас занимала.
То один, то другой ходили на неё смотреть – не заросла ли? Возвращались довольные, ели с аппетитом.
– Эх, кабы ещё баллер погнуло – это уж наверняка бы отозвали. Его на промысле не выправишь, в доке надо менять.
– А хорошо б ещё – винт задело.
– Ну и что – винт? Это водолазы сменят. Что, на базе винтов запасных нету? Самое верное – баллер.
Салаги тоже пришли поесть, послушали нас. Димка рассмеялся.
– Энтузиасты вы, ребята! А как же насчёт «море зовёт»?