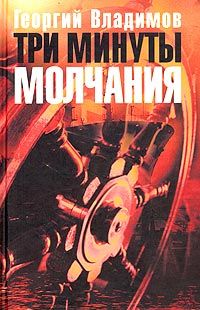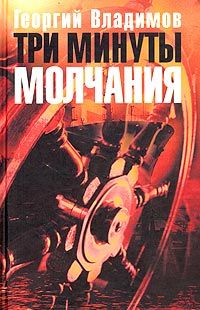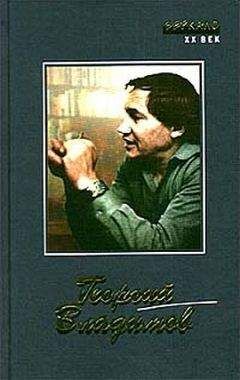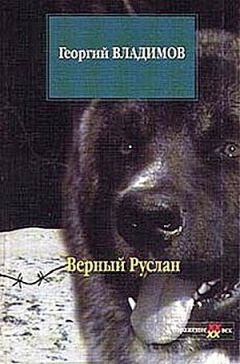Три минуты молчания. Снегирь - Владимов Георгий Николаевич
– То же мне и «дед» предсказывает. Только – под забором. И в механики зовёт.
– Ты «деда» не слушай. «Дед» у тебя, знаешь… Хотя, в общем-то, он прав. Но лучше – в штурмана идти. У тебя дело будет в руках, понял? Знания какие-то. А когда дело в руках – и делать ничего не надо, понял?
– Нет.
– Чо тут не понимать! Вахту отстоял – и гуляй шестнадцать часов в сутки, плюй на всех с клотика. Купишь себе макен, мичманку наденешь, человеком себя почувствуешь. Есть же у тебя к полноценной жизни стремление, курточку вон какую отхватил. А представь – ты штурман. В макене ходишь, с белым шарфиком, берёшь такси, едешь в ресторан, развлекаешься, как человек. Не «советский», не «хуецкий», а просто человек. Тебе – уважение. И не рассусоливай в жизни, не мямли. Надо быть резким человеком, понял?
– Ага.
– Сколько держишь?
– Семьдесят два.
– Точней на курсе! А все эти рыла – ты их презирай, понял? Они большего не стоят. Их надо на место ставить. Холодно, резко, понял?
– Понял. Надо быть резким человеком.
– Во! Столько и держи.
Опять запищал эхолот. Третий сбегал туда и вернулся, сплюнул вниз, на палубу. Плевался он длинно, это у него хорошо получалось.
– Ты женатый?
– Нет пока.
– Что ты! Цены тебе нет. Свободный, незатраленный. А я одной стерве двадцать пять процентов от сердца отрываю, от другой отбиваюсь, и с третьей раздрай, а там – пацан, понял? Такой пацан – закачаешься! «Папка у меня стулман», понял? Характер – весь в меня, даже не платить жалко. Будет резким человеком. Если она его не испортит. Вот я чего боюсь.
Хлопнула дверь – кеп вошёл, в шапке, в телогрейке, в тонких сапожках, как у кавказских плясунов. На палубе в таких не походишь, – но капитаны, бывает, неделями на палубу не выходят. В шапке у него решительный был вид, не скажешь, что лысина как поднос. Первым делом он на эхолот поглядел, потом на компас. Нахмурился.
– Сколько он у тебя держит? Лодочными зигзагами он у тебя ходит [45].
– А ну точней! – сказал третий. – Ты что как бухой?
Спорить тут бесполезно. Они лучше меня знают, что картушка на месте не стоит ни секунды. Держишь – в общем и целом. Но поворчать полагается.
– Не ходи зигзагами, – кеп мне говорит.
– Я не хожу.
– Ты-то не ходишь, пароход ходит.
– Есть не ходить зигзагами!
Слава богу, эхолот заверещал, оба туда кинулись.
– Можно бы и метнуть, – третий сказал.
– А глубина? Сейчас-то погода слабая, она, видишь, по дну идёт. А к ночи – хрен знает, на сколько она поднимется.
Снова вернулись в ходовую.
– Норвежец вон уже на порядке стоит, – третий заметил. – Спросить бы у него, на сколько забрасывали?
– Я те спрошу! Ещё чего придумай.
– А что – не ответят?
– Не положено – и всё.
Норвежец был весь оранжевый, золотистый, с белоснежной рубкой. Под цвет бортов – шлюпки выкрашены и капы. На палубе, у лееров, стояли двое в чёрных блестящих роканах, смотрели, как мы проходим. Почему бы и не спросить у них? Я сам спрашивал, они всегда ответят. Надо только выйти на мостик, показать пальцем вниз, нарисовать вопросительный знак. И любой норвежец сразу на пальцах покажет, на сколько у них сети заглублены. Жалко им, что ли?
– Давай-ка сами проверим, – сказал кеп.
– Да неудобно, Николаич.
– Неудобно штаны через голову надевать. И пустыря дёргать.
Третий, по телеграфу, сбавил ход до малого и ушёл к эхолоту. Справа по ходу качались на зыбях норвежские кухтыли, красная цепочка длиной с полмили. У них порядки покороче наших, да ведь и судёнышки поменьше.
– Правее держи, – сказал кеп. – Пройдёшь между кухтылями?
– Постараюсь.
– Не «постараюсь», а надо не задеть.
Всегда так делают на промыслах, если надо пройти через чужой порядок. Но я так думаю, норвежцы-то поняли, что мы их проверяем. Для чего же мы курс меняли? Те двое, что стояли на палубе, так весело переглянулись. Даже кеп смутился.
Эхолот пискнул и смолк. Это мы прошли над их сетями.
– Восемьдесят, – сказал третий.
– Ну, видишь, – сказал кеп. – И спрашивать не надо.
Норвежцы глядели на нас и скалились.
– Давай-ка полный, – сказал кеп.
Третий перевёл ручку телеграфа. Но справа кто-то уже нас обгонял, быстренько, как стоячих. По синему борту бежали белые буквы. Третий их читал, шевелил губами:
– «Герл Пегги. Скотланд».
– Шотландец, – сказал кеп. – А ты – «Скотланд». Английского не знаешь. То-то и видно, что диплом у тебя не свой.
Лицо у третьего пошло пятнами.
– А ходко идёт, – кеп позавидовал. – И всего-то автомобильный движок у него.
– Обводы зато хорошие.
– Обводы – мечта!
Шотландец нас обошёл – стройный, гордый, как лебедь. Мы смотрели на его корму с подвешенной шлюпкой – такой же синей, лаковой, как его борт. Из камбуза вышел повар, в белом колпаке и фартуке, с ведром. Он на нас посмотрел, что-то кому-то крикнул в дверь и выплеснул с кормы помои. Это было прямо у нас по курсу. Мы через эти плавающие помои должны были пройти.
– Нахалы, – сказал кеп. – Нахалы, больше никто. А ты ещё спрашивать у них хотел.
– Я не у них. Я у норвежцев.
– Все хороши. Аристократы вонючие.
Из радиорубки в ходовую вышел «маркони». Чего-то он улыбался хитро, смотрел вслед шотландцу, потом сказал, как будто между прочим:
– Николаич, радиограммку примите.
Кеп на него уставился грозно.
– От этого, что ли? От «Скотланда»?
– От него.
– А зачем принял?
– Случайно.
Кеп её взял двумя пальцами, как лезвие.
– Детством занимаются. «Иван, селёдки нет, собирай комсомольское собрание». Хоть бы новенького чего придумали.
Скомкал её, кинул за борт, через окно.
– Больше мне таких не подавай. Делать тебе нечего.
– А я чего? – «Маркони» мне подмигнул. – Они на совет капитанов настроились, знают волну.
– Врёшь ты всё. Сам на них настроился.
– Проверьте.
Кеп поглядел на часы. И правда, пять было, как раз совет капитанов. Он ушёл в радиорубку и там, слышно было, забубнил:
– Восемьсот пятнадцатый говорит. Здравствуйте, товарищи. Сегодня первая выборка у нас. Взяли маловато, одиннадцать бочек. Глубина шестьдесят. Сегодня думаю метнуть на восемьдесят. Есть у меня предположение…
Вышел мрачный, походил по рубке, снова пошёл смотреть эхолот.
– Пишет всё, пишет… Мелочь пузатую. Или планктон. Ладно, пойду к себе. А ты позови, когда чего-нибудь дельное напишет. И следи как полагается, а то ты ему всё лекции читаешь…
Откуда он наш разговор слышал? Наверно, по трубе из своей каюты. Она хоть и заткнута свистком, но услышать можно, если ухо пристроить.
– Ему не я читаю, – сказал третий. – Ему «дед» читает, в механики зовёт.
Кеп себя постучал пальцем по лбу, – мне видно было краем глаза.
– Чем бы дитё ни тешилось…
Пошёл было, потом опять вернулся, поскрёб щеку.
– Между прочим, это он мысль подал, собрание надо бы провести. Есть кой-какие проблемы.
– Значит, не зря я вам радиограмму подал? – спросил «маркони».
Кеп рассердился:
– Делом займись, Линьков. Аппаратуру свою изучай, повышай квалификацию. Тоже детством занимаешься.
Я потом спросил:
– Почему это он «деда» не любит?
– А кто кого любит? – спросил «маркони».
– Точней на курсе, – сказал третий. – Вправо ушёл. Не ходи вправо.
Больше мы не говорили.
Потом я сменился и пошёл глупыша моего проведать. Он уже всю селёдку успел срубать и поднагадил, конечно. Я ему всё почистил, потом надёргал из шпигатов ещё несколько селёдин. Там они всегда застревают, никакой струёй их оттуда не вымыть.
Фомка поглядел на это богатство, одну заглотал сразу, а другие накрыл крылом. Он уже меня совсем не боялся, не зарывался головой в перья, когда я руку подносил. Но с крылом у него плохи были дела, я чуть задел случайно, и он закричал, забился. И потом уже смотрел на меня сердито, только и ждал, когда я уйду. Вся дружба наша полетела прахом…