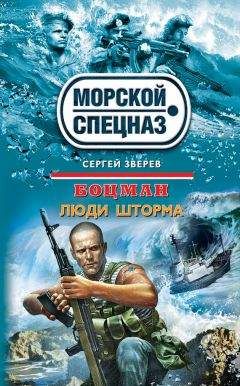Фредерик Марриет - Морской офицер Франк Мильдмей
Не прошло десяти минут, как началось сражение, но уже многие из храбрых валялись на земле. Голова неприятельской колонны была истреблена взрывом нашей мины. Они опять перестроились, и были уже на половине расстояния к нашей бреши, как начало смеркаться. Тогда мы увидели избранный корпус из тысячи человек, предводительствуемый полковником и подходящий к нам по телам собратий только что павших.
Храбрый предводитель, казалось, был столько же хладнокровен и спокоен, как за завтраком; обнаженной саблей указывал он на брешь, и мы слышали, как он воскликнул: «Suivez moi!»
Я завидовал этому храброму человеку; завидовал тому, что он был француз и кинул ему между ног ручную гранату; он схватил ее и отбросил от себя на значительное расстояние.
— Довольно хладнокровный детина, — сказал капитан, стоявший тогда около меня. — Погоди, я пошлю ему другую; — и он пустил гранату.
Но полковник отбросил ее прочь с одинаковым хладнокровием и достоинством.
— Как видно, его может только излечить унция свинца, пропущенная натощак, — возразил капитан. — Правда, жаль убивать такого молодца, но что же делать.
Сказавши это, он взял ружье из рук моих, только что заряженное мною, прицелился, выпалил; полковник зашатался, схватился рукою за грудь и повалился назад, на руки нескольких человек, бросивших в это время свои ружья и взявших его на плечи, не чувствуя, или совершенно не обращая внимания на опустошение, производимое вокруг них смертью. Мы обратили сильный ружейный огонь на эту небольшую толпу, и каждый из них был ранен или убит. Полковник, опять оставленный без помощи, прошатался еще несколько шагов, покуда достиг небольшого куста, бывшего аршинах в десяти от места, где он получил смертельную рану. Тут он упал; сабля, которую он все еще держал в правой руке, остановилась на ветвях, обратившись острием к небу, и как будто указывала путь душе своего храброго владельца.
С жизнью полковника кончились и надежды французов в тот день. Мы видели, как офицеры исполняли долг свой; ободряли, кричали ура, гнали людей своих, но все было напрасно! Они вонзали сабли в груди бегущих; но солдаты не обращали даже на это внимания; быть убитым таким образом им было не новость, они довольно уже сражались для завтрака. Первое покушение и решительный натиск остановлены были смертью храброго начальника, и, «спасайся, кто может», все равно исходило ли оно от офицеров или барабанщиков, окончило дело, позволив нам перевести дыхание и сосчитать своих убитых.
Лишь только французы увидели с своей батареи, что покушение не удалось, и что начальник этого отряда был убит, они открыли по нас самый жаркий огонь. Я повесил шапку свою на штык и едва успел приподнять ее над стеною, как дюжина ядер в одну минуту снесла ее; счастье, что голова моя не была под нею!
Когда прекратился огонь с батарей, что обыкновенно делалось в определенные часы, мы имели возможность осмотреть место, на которое произведено было нападение. Штурмовые лестницы и мертвые тела лежали во множестве. Все раненые были унесены; но самую роскошную «пищу для пороха» представляли собою тела, лежавшие перед нами; все они, казалось, были избранные люди; ни одного не было менее шести футов, а некоторые еще выше; они были одеты в серые шинели, чтобы подход их сделать не так заметным в утреннем тумане; а как по ночам было весьма холодно, то я решился достать себе одну из этих серых шинелей, которая бы грела меня во время ночной вахты. Я хотел также достать полковничью саблю, чтобы подарить ее капитану. Поэтому, когда стемнело, спустился с бреши по штурмовой лестнице, припасенной мною в замке, и, сделав так много для короля, вознамерился сделать что-нибудь и для себя. Темнота была ужаснейшая. Я беспрестанно спотыкался; ветер дул, как ураган; пыль и щебень почти ослепляли меня, но я хорошо знал дорогу. Шататься между мертвыми телами в глухую ночь было очень похоже на странствование шакала, и я ужаснулся своего положения. Между порывами ветра выдавались минуты мертвой тишины, которой адская темнота ночи придавала особенный ужас для ума, еще ребяческого. По этой-то причине я не одобряю ночных нападений, кроме тех случаев, когда можно совершенно положиться на своих людей. По большей части они неудачны, потому что человек с обыкновенной храбростью, который среди белого дня станет действовать хорошо, будет пятиться назад во время ночи. Страх и темнота были всегда тесными союзниками. Темнота скрывает страх, и потому страх любит темноту, потому что она избавляет труса от стыда; и если только страх стыда есть единственное побуждение сражаться, то дневной свет в особенности необходим.
Я осторожно полз вперед, ощупывая мертвые тела. Первое, на чем остановилась рука моя, свернуло кровь мою в сыворотку: это была нога гренадера, разорванная ручной гранатой.
— Друг, — сказал я, — сколько я могу заключать по твоей ране, твоя серая шинель ни на что не годится.
Вслед за тем я ощупал тело другого убитого. Ружейная пуля пробила ему голову, и начисто рассчитала его с заимодавцами. Я нашел, что могу воспользоваться оставшимся после него наследством, из которого можно было даже уделить на его похороны; но тело чрезвычайно окостенело и неохотно уступало свою одежду.
Я, однако ж, стащил ее и, одевшись в нее, отправился искать полковничьей сабли; но в этом предупрежден был французом. Окостеневший полковник лежал на прежнем месте; но сабли не было при нем. Я готовился возвратиться, как был встречен не мертвым, но живым неприятелем.
— Qui vive?15 — спросил тихий голос.
— Anglais, bete!16 — отвечал я тоже тихо и прибавил: — но корсары не сражаются между собою.
— Правда, — сказал он и, проворчавши «bon soir», скоро скрылся от меня. Я начал пробираться назад к замку, сказал лозунг часовому, и показывал мою шинель с чрезвычайным удовольствием и радостью. Многие из товарищей моих отправлялись в такую же экспедицию и были награждены большим или меньшим успехом.
В несколько дней тела убитых, лежавшие по берегу, были почти обнажены ночными посетителями; но тело полковника оставалось уваженным и нетронутым. Дневной жар сгноил его, и оно, лишившись всей своей мужественной красоты, представляло один только отвратительный труп. Законы войны, равно как и законы человечества, требовали почетного погребения остатков этого героя, и наш капитан, истинный рыцарь феодальных времен, приказал мне поднять белый платок на пике, как флаг перемирия, желая похоронить тела, если неприятель нам позволит.
Исполнение это было поручено мне. Я вышел из замка с лопатами и кирками; но застрельщики на холме начали пускать в нас свои винтовочные пули и ранили одного из посланных со мною. Я посмотрел на капитана, как будто бы спрашивая: идти ли мне далее? Он махнул рукой, чтоб я продолжал, и я принялся тогда копать яму возле мертвых тел; а неприятель, видя намерение наше, перестал палить. Я похоронил уже многих, как капитан пришел ко мне, желая воспользоваться случаем осмотреть позицию неприятеля. Его увидели с укрепления, узнали и совершенно угадали его намерение.