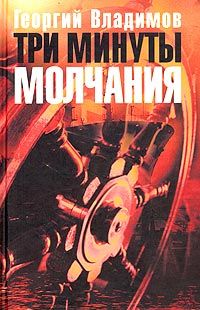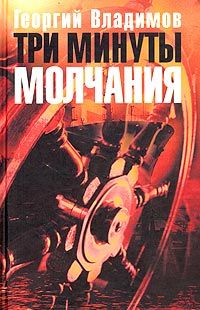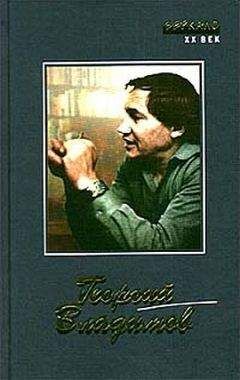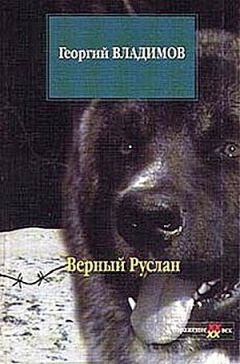Три минуты молчания. Снегирь - Владимов Георгий Николаевич
– Плохой ты задельщик, Вася. К следующему рейсу не исправишься, мы тебя артельным не изберём.
– Тебя бы вот попросить – заделывать.
– А чего ж? Я, Вась, всегда за товарища.
– Конечно. Мозгу-то чуть, на что другое не хватит…
Дрифтер не обиделся, зареготал – со всеми за компанию. Васька повернулся лицом к переборке. Но дрифтер опять к нему пристал:
– Васька! А, Васька?
– Ну чо тебе?
– Не чокай, мы тебе всё равно спать не дадим. Ты как их зовёшь, пацанок, – Сашка да Машка? Или же – Сонька да Тонька?
– Что я их – для потехи родил?
– А для чего, Вась?
– Дурак ты. Им жить надо. Имена им для жизни дают. Не просто так, корове кличка.
– Ну, дак как же ты, как же ты их, Вася?
– Как же… Одну – Неддочка. Недда.
– Ух ты! Кит тебя проглоти! А другую, Вася?
– Другую – Земфира.
Я думал – они до слёз нарегочутся.
– Не, Вась, не обидься. Заделал плохо, дак хоть назвал хорошо. Неддочка, значит, и Земфира? Ах ты, цыган!..
Васька помолчал и вздохнул тяжким вздохом:
– Не, бичи, я вижу – вы так не кончите. Ну-ка я вам сказку расскажу.
Дрифтер запрыгал, заскрипел лавкой.
– Давай, Вася, травани чего-нибудь божественное про волков!
– Жил, значит, король. В древнее время. Молодой и распрекрасный…
– Это где же было? – спросил Шурка.
– Где? В Турции.
– Там не король, там султан. С гаремом.
– Сиди! – заорал дрифтер. – Шесть классов кончил, а уж будто знает – где король, где султан. Дай сказку слушать.
– Жил, значит, король, и служил у него кандеем один бич, с детства порченый. Горб у него был на спине.
Шурке не понравилось:
– А без горба нельзя?
– Нельзя. Тут всё дело в горбе. А условие кандею такое было – каждый день новую похлёбку варить. Чтоб без повтору, иначе – секир-башка. Ну, изворачивался бич. И король его за это очень любил. Как приедет с охоты, сразу – кандея: «Чего сегодня настряпал?» – «Супцу с оленем, господин король». – «А вчера – не с оленем разве?» – «Никак нет, господин король, вчера с кабаном». – «А завтра?» – «А завтра – с медведём». – «Ну валяй. Но если ты мне, швабра, то же самое сваришь, чего я уже отведал, я тебе голову острой шашкой снесу и прикажу моим ближайшим помощникам съесть». Так-то ему, бичу, жилось. А звали его – Маленький Мук. Да-а… И вот как-то приходят три ведьмы во дворец. Мымры ужасные, из-под носа клыки торчат. Идут к кандею на кухню…
– Где ж охрана была? – Шурка спросил, военный человек.
– Где? А вся с королём уехала – на медведя. А ведьмы – они через любую охрану пройдут. Да… И говорят они кандею: «Слышь, кандей, а хочешь – мы тебе горб исправим?» – «Как так?» – «А это наше дело. Исправим, и всё. Красив будешь, как прынц, и королевская дочка в тебя влюбится без памяти. Двенадцать потрохов тебе нарожает и верность соблюдёт. Ты, например, в море уйдёшь, брильянты искать на дальних островах, а она хоть чёрным хлебушком перебьётся, а верность соблюдёт». – «А что же я за это сделать должен?» – «А это скажем. Супцу с оленем королю навари». – «Да он уже рубал с оленем». – «Вот, ещё навари».
– Ать, стервы! – дрифтер опять заёрзал.
– «Э, – говорит кандей, – так я не только что горба, так я головы лишуся». – «Ну как хочешь, – ведьмы говорят, – мы тебе самое лёгкое предлагаем». – «Да вдруг он заметит? На кого мне тогда сваливать?» – «А вот, – говорят, в том-то всё и дело! Тебе ещё гарантию дай. Какое же с твоей стороны будет геройство?» А за королевскую дочку геройство надо бы проявить.
– Это понятно, – Шурка кивнул. В карты он уже не глядел.
– Ну, кандей почесал горб и думает: «Была не была. Сварю я ему с оленем. Может, и не заметит». Приезжает король с охоты: «Супчику бы, – говорит, – навернул бы сейчас, тарелок бы восемь!» – «А пожалста, господин король, целый бак наварили». Сел король за похлёбку. «Это чего, – говорит, – я отведываю?» – «А что, невкусно?» – «Очень даже вкусно, да жалко, я этого больше в жизни не порубаю». Тут у кандея надежда появилась. Вдруг его король помилует. И он всё же честный был, кандей, до сих пор не врал ни разу. Бац королю в ножки и лбом трясёт. «Ты чего это, верный Маленький Мук?» – «Виноват, господин король, вы это уже рубали позавчера». Король сразу и ложку бросил. «Ах ты, волосан, где моя любимая шашка?» Сразу к нему вся охрана кидается: «Вот, господин король, мою возьмите». – «Нет, лучше мою, моя острее!» Король и на охрану озверел: «Я сказал – мне мою любимую чтоб принесли! Всю жизнь мечтал кому-нибудь этой шашкой башку снести, да всё случая не было…» Побежали, значит, за любимой шашкой…
Тут Васька и примолк.
– А дальше чего было? – дрифтер не утерпел. – Э, ты не спи! Досказывай. Принесли шашку, а дальше?
– Кто сказал – принесли?
– Побежали, побежали за ней.
– Вот. Побежали. Это дело другое. А шашки-то – нету.
Дрифтер едва не до слёз растрогался.
– Спёрли, шалавы! Вот те и ведьмы, а?
– Ага, – сказал Васька. – Ведьмы…
Он уже совсем был сонный.
– А король, значит, другой не хочет, не любимой?
– Не-е, не хочет…
– Васька, не спи. Васька!
Васька только замычал.
– Васька, этак мы сами не заснём. Что дальше-то было?
– А не знаю. Не придумал.
– Да что же ты, вражина, непридуманную рассказываешь? Это как называется?
– Завтра придумаю. Доскажу тогда…
Дрифтер до того обиделся – еле дверь не разнёс, когда уходил в свою каюту. Потом всё же успокоились бичи, поздно уже было, улеглись. Одни Шурка с Серёгой ещё доигрывали кон, а после сводили счёты:
– Тридцать шесть! Тридцать семь! Тридцать восемь!..
Как я понял, Серёга снова продул. Наконец и он угомонился, вытянулся в койке, а на сон грядущий оглядел перед собою весь подволок и переборку. Он, как поселился, сплошь их обклеил всякими красотками. Из журналов, да и своего производства – Надьками-официантками, Зинками-парикмахершами, – в кофточках и так, неглиже на лоне природы, где-нибудь он их за сопками снимал, средь серых скал, гусиная кожа чувствовалась. Он даже расписание тревог убрал, чтоб разместить всю коллекцию. Потом и Серёга щёлкнул плафончиком.
Тьма настала кромешная, и тишина, только вода шипела близко, у меня над головой, а где-то далеко, в тёплом нутре урчала, постукивала машина. И я летел один, качался над страшной студёной глубиной. Все сказочки для меня кончились. Они-то, впрочем, давно уже кончились. Я в этом рейсе как будто впервые плавал, заново открылись у меня глаза и уши, и я всё видел и слышал со стороны, даже себя самого. Странно, кто это со мной сделал? Может быть, эта самая Лиля? Нет, она уже потом появилась, а сначала мне самому вдруг захотелось совсем другой жизни, где ничего этого нет – ни бабьих сплетен, ни глупостей, ни тревоги: что там делается дома, чем будешь завтра жив? Потом она появилась – в Интерклубе мы познакомились, на танцулях. Чествовали тогда не то английских торгашей, не то норвежцев, теперь не помню, а помню, как… Ну, вы представляете, как это бывает, когда полон зал и накурено, хоть топор вешай, и все уже обалдели, выпили, накричались, обмахнулись всякими там жетонами и значками, и уже кое-где спят в углу, на сдвинутых стульях, а у массовички регламент ещё не кончился, – хотя она уже еле ползает и хрипит, как боцман на аврале, – ей, видите ли ещё хочется, чтоб мы теперь всей капеллой станцевали «международный» танец: «Внимание! – хлопает в ладоши. – Эттэншен плы-ыз! Смотрим все на меня. Делаем, как я. И-и раз! И-и два! Берёмся все за руки». И вот чья-то рука оказалась в моей, только и всего. Горячая, цепкая. Потом я её в буфет повёл: «Плы-ыз, леди», раздобыл выпить, и мы посидели за столиком, а рядом сложил голову какой-то мулат. Та ещё была атмосферка! И я зачем-то слова коверкал «по-иностранному» – по дурости какой-то или отчего-то вдруг оробел, – а она всё допытывалась: «Вы англичанин? Инглиш? Нет, вы норвежец!» – пока я ей не брякнул: «Из тутошних мы, не робей». Как она рассмеялась!.. На ней было зелёное платье с вырезом, платок за рукавом, и волосы – копной. Потом я её провожал. Я ещё ничего не знал про неё, кто она и что, но вдруг померещилось, что я своё нашёл, и теперь я всё к чертям перепахаю, меня на всё хватит. А вот упал – в первой борозде. Из того же я теста, что и все прочие.