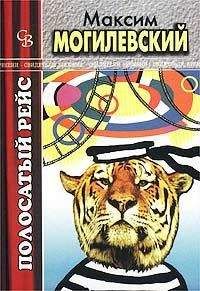Юрий Иванов - Рейс туда и обратно
Русов вызвал на мостик двух матросов. Одного поставил к локатору, второго — чтобы обозревал сектор впереди и с левого борта от судна, а сам застыл у окна с правого борта танкера.
Так вот, вахты... Другое дело — ночные вахты, когда танкер пашет океанские широты, лежащие в стороне от основных морских путей. О-о, как долго и нудно тянутся они! Тьма египетская, коль небо затянуто тучами, и кажется тебе, что судно остановилось, что впустую грохочет двигатель в его чадном чреве, что вхолостую вращается винт. Все остановилось! Танкер, время, жизнь... А вот луна зачаровывает. Глядишь на текущую навстречу тебе оловянно сияющую океанскую ширь, и вдруг охватывает тебя странное, гнетущее чувство отчаяния, словно никогда-никогда не окончится эта бесконечная лунная дорога, что не наступит утро, что танкер уплыл в какие-то неведомые, фантастические широты, где никогда не бывает дня, а лишь одна беспредельная ночь повисла над этим медленно, тяжко колышущимся океаном, и не вырваться танкеру, а с ним и тебе никогда-никогда из той ночи.
Волны, волны... В такие-то вот вахты, отгоняя сон и сосущее чувство отчаяния, и погружаешься ты в воспоминания, в тягостные размышления о себе, о смысле жизни. О том, так ли ты живешь, ту ли дорогу выбрал в жизни, свою, единственную, предназначенную лишь для тебя, в этом бушующем, сложном мире дорогу? С тем ли человеком живешь ты, с кем именно и должен жить?..
— Старпом, на самом обрезе окружности три точки засветились, . — сказал Серегин, стоящий у локатора. — Взгляните.
Русов посмотрел. Желтый лучик кружил по зеленому полю, на котором мутно обозначились три пятнышка. Одно — левее от курса танкера, два — правее. Когда лучик набегал на пятнышки, они как бы оживали, становились более яркими. Вот они, айсберги, ледяные призраки Антарктики... Эти уже примечены и не страшны, но те, что таятся в воде, что прячутся в волнах... Может, снизить скорость? Сейчас четырнадцать узлов, но насколько ее снизить? До восьмидесяти? Однако уменьшится ли от этого опасность? Такая махина и на скорости в восемь узлов от удара о лед получит такие повреждения, что... Идти со скоростью в пять-шесть узлов? Но тогда попутный ветер и волны станут валить судно с борта на борт и оно начнет терять управление. К тому же вместо двух суток они будут идти к Кергелену вдвое дольше. Значит, остается одно: идти как шли.
— Подменимся, Валентин, я останусь у локатора, — сказал Русов. Добавил: — Внимание и еще раз внимание, ребята!
...Так ли ты живешь, как должен жить, ту ли дорогу выбрал в жизни, какую должен был выбрать?.. Хорошо расходимся с этими айсбергами, а других пока не видно... С той ли живешь, с какой должен был связать свою судьбу?.. С той, с той... О чем же тебе написать, Нина? Про эту вот вахту? Про альбатросов? Про капитана, молчун какой, а? Человек из войны. Что только с ним не происходило, сколько же пуль просвистело над его головой, но отчего он стал т а к и м в последние рейсы? Отчего такая нервозность при выполнении любых, необходимых в плавании действий? Чуть швартовка: «Коля, голова разламывается... Ты тут поглядывай!» Бункеровка: «Я в каюте буду, Коля. Если что случится сложного — позови, милый. И, прошу, без лишнего риска!» Хм, «что случится сложного»! Русов оторвался от локатора, уставился в океан. Но что это там? Нет, показалось. Не «лысина» ледяная, а волна вдруг таким горбом вспухла. И опять вернулся к локатору: как там ледяные горушки? Остаются в стороне, хорошо расходимся... А капитан... Трусит капитан, все дрожит в нем от постоянного, сосущего душу страха: лишь бы ничего не случилось! Но можно ли быть капитаном громадного океанского судна, когда поселилась в твою душу постоянная неуверенность в себе, страх за неточность своих действий?.. Конечно, до пенсии капитану осталось всего с год. Действительно, может, в последний рейс идет, а на финише, каким бы и где бы он ни был, всегда ждешь от судьбы какого-то подвоха, и тут можно понять капитана Горина. Понять? Но верно ли это? А может, попытаться вдохнуть в него ту же уверенность, с какой он водил суда по морям-океанам долгие, долгие годы? Чтобы сошел он с судна на берег не помирающим от страха пенсионером, а именно к а п и т а н о м, с грустью и болью сердечной, а не с облегчением покидающего океан и танкер навсегда?.. Все так сложно!..
— Старпом, можно подымить? Глаза слипаются.
— Курите.
Луна, мягко просвечивающая сквозь пелену облаков, вынырнула в небесную полынью и залила океан ослепительным, серебристым светом. Вот и хорошо. Видимость улучшилась, опасность уменьшилась, хотя как сказать? Ледяная глыба в таких волнах так же неприметна, как и в полной темноте. Но все же... капитан... кого он сегодня напомнил ему, Русову? Своим восково-желтым, заросшим щетиной, измученным лицом? Откуда-то о т т у д а, из военных времен, вдруг выглянуло лицо, и Русов задумался, вороша в памяти события своих детских военных лет. Кого же напомнил ему капитан? Черного, пахнущего дымом, потом и соляркой танкиста, ворвавшегося в их дом с задыхающимся выкриком: «Где... тракторист?! Танк без горючего... Бензин есть?» Нет, танкист был низеньким, белобровым... Погрузив в прицеп бочку бензина, отец покатил на своем «Фордзоне» к опушке леса, где черной, угловатой глыбой застыл танк. День был жаркий. Разогретый воздух струился над лесом, полем. Жаворонок ввинчивался в синее небо, пел свою песню, а где-то невдалеке тяжко погромыхивала, ворочалась война, и за лесом поднимались столбы дыма. Враг уже был где-то там, уже горели соседние деревни и хутора. Босиком, простоволосая, бежала за трактором мама, взмахивала узелком, в который были положены смена белья, пачка махорки да кусок мыла и спички: не танкист бы, отец бы уже ушел в райцентр, куда ему приказано было явиться. И Колька бежал следом, а танкист быстро шагал впереди трактора, выкрикивая: «Скорее, черт! Скорее же!» Потом отец и механик-водитель переливали из бочки в топливный бак танка бензин, а невдалеке слышался рокот многих двигателей, и танкист то и дело оглядывал пыльную дорогу, змеящуюся средь полей к лесу. По ней шли, бежали, катили тележки с вещами люди, покидавшие пылающие деревни...
Русов поглядел на часы: четверть шестого. Еще два часа до окончания вахты... Судно, покинутое экипажем. Кто его покинул, почему? Айсберги? Надо Жоре сказать, чтобы особенно внимательно отнесся к вахте... Отец. Мощный взрык ожившего танкового двигателя. Танкист, лезущий в машину. Его голос: «Уходите все из деревни! Я тут задержу фрицев!» Пелена легкой пыли, повисшая над опустевшей вдруг дорогой. Отец, направивший «Фордзон» прямо в поле. Они с мамой, бегущие к деревне. И черные клубы дыма над полем. Резкие, раскатистые выстрелы со стороны лесистого пригорка: танк светлобрового танкиста бил по колонне грузовиков с чужими солдатами. Отец, вынырнувший вдруг откуда-то сбоку, из ржи, столб огня за его спиной. Лицо в черных потеках. «Поджег! Поле поджег! — кричал отец. — Не оставлять же им!» Потом они бежали, шли, ехали на попутной машине. Райцентр, забитый людьми, автомашинами, скотом. Ржание лошадей, лай собак, ругань, слезы, чьи-то команды: «Третий вз-во-од, к церкви! Второй взвод...» Торопливое прощание на полустанке. «Скажешь братану, что другого выхода не было! — торопливо говорил отец. Он держал маму ладонями за голову, торопливо, как-то судорожно, то прижимал ее к себе, то отталкивал, отстранял, вглядывался в ее заплаканное лицо, и на Кольку быстро взглядывал: — Коля, мамку береги! Я, видимо, на Балтику проситься буду. Как там окажусь, в Питере, тотчас приду. Ну, до встречи!» Тяжко, нервно пыхтящий паровоз. Вагоны, облепленные людьми. Отец подсадил вначале маму, и кто-то из вагона потянул ее в открытое окно, и мамины ноги в коротких на синих круглых резинках чулках мелькнули. А потом сильные руки подхватили Кольку, и на какое-то время он повис в воздухе над бегущими внизу людьми, уплывающими назад шпалами, лицом отца...