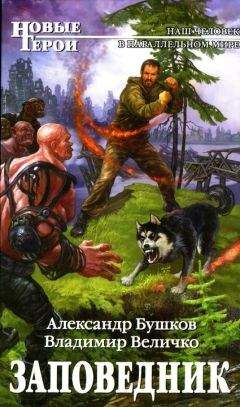Василий Тишков - Последний остров
С озера долетел осторожный плеск и спокойное «кря-кря». Старая утка выводит своих, еще пушистеньких, утенят из камышей на поросшие темно-зеленой ряской тихие заводи завтракать. Утята тонко попискивают, голоса их сливаются в единое «тиу-тиу».
Вот сообщила о своем пробуждении выпь. Опустила длинный клюв в воду и ухает. Звук летит по воде и как бы из воды, поэтому трудно определить, где она сейчас находится.
Вершины деревьев вспыхнули под первыми лучами, и, рождаясь мгновенно, брызнули сотни новых звуков. Это вместе с солнцем заявляют о себе лесные птицы. Первым свечой в небо поднялся маленький лесной жаворонок, вот он уже залился тонким серебряным перезвоном.
Вылетел на завтрак и дятел. Он будто путевой обходчик, стукнет раз и прислушается, стукнет еще раз и снова слушает. А как только разведает захороненные в коре личинки жука-короеда, понесется тогда по лесу его неустанное «тук-тук-тук, тук-тук-тук».
Подул легкий, еле заметный ветерок и стал разгонять туман над озером. Солнце помогает ему. И вот уже голубая рябь от камышей добегает до желтеющей на той стороне песчаной косы, а по ряби — черные точки прожорливых гагар.
По самому берегу неуклюже пробежала старая зайчиха, такая домашняя и озабоченная, что ребята рассмеялись.
— Как бабка Сыромятиха, — сказал Михаил. — Похожа, правда? Сейчас остановится, клюнет воздух носом и сочинит про нас дразнилку.
Наверное, от нее зайчата сбежали. Вот она и грустная такая, не может их найти.
— Зайцы коммуной живут. Чьих зайчат зайчиха найдет, тех и покормит. Ты спать еще не хочешь?
— Ну что ты, Миша?! Ночь такая короткая… Вот только устала чуть-чуть…
Она склонила голову к его плечу и вздохнула.
— Ты чего, Аленка?
— Я тебе тоже хочу кое-что подарить… — она положила Михаилу в ладонь своего оловянного солдатика. — Обещай, что будешь дружить с ним.
— Хорошо, Аленка. Я обещаю тебе.
— Он славный товарищ и многое знает. Ведь раньше солдатик жил у профессора. И если ты захочешь, он расскажет тебе о Ленинграде, о старом профессоре, который в молодости был революционером, расскажет о Семеныче и о маленькой девочке, которую спас на Ладоге солдат из страны Сибири.
— Главное, ты Сибирь не забывай. А мы-то умеем помнить. И плохое, и хорошее.
— Да как я могу хоть что-то забыть из нашей жизни? Извини, Миша, но дело не только в тебе и маме Кате. Я полюбила твои озера как свои, полюбила деревню, речку Полуденку, Жултайку, деда Якова, Анисью Павловну и Федора. Все вы такие родные мне стали… Не могу тебе толком объяснить, но я уже давно себя чувствую нечаевской. Понимаешь?
— На врача, наверно, надо долго учиться?
— Ну и что? Я же два раза в году на каникулы буду приезжать. А как только стану врачом, так сразу и приеду в Нечаевку насовсем. Я ведь теперь никуда без вас…
Аленка закрыла глаза. Ей было хорошо рядом с Михаилом, спокойно, а предстоящая разлука с мамой Катей и братом не пугала почему-то, все казалось удивительно ясным, понятным. Еще несколько дней — и она увидит родной город, гранитные берега могучей реки, знакомые мосты, улицу свою. Может быть, и поселится в своем районе. Она очень постарается, чтобы стать хорошим врачом, и тогда вернется сюда уже насовсем, на вторую свою родину. Какое это хорошее слово — «родина». А еще есть такие же близкие и понятные слова: «родня», «родные», «род». Война сделала Аленку сиротой, но она и подарила ей родину, вот эту, среди озер и лесов в деревне Нечаевке. Как нечаянный интерес нагадала судьба, а может, и больше — целую жизнь.
— Аленка…
— Что, Миша?
— Ты помнишь свой первый день в Нечаевке?
— Ну конечно. И первый день, и второй, когда ты рано утром объявился. Ох, и напугалась я тебя…
— В тот день убили олененка. И убил-то его хороший человек. Ненароком. А у меня сложились стихи. Как бы ему в укор. Не тогда придумал, а совсем недавно. Этой весной. Хочешь, я тебе их прочту?
— Даже очень хочу…
Михаил кашлянул в кулак и нараспев прочитал Аленке стихотворение, которое переписывал, наверное, раз сто.
Из мелкой поросли сосенок
Стон прозвучал, как горький вздох.
Сраженный пулей олененок
Упал неслышно в мягкий мох.
И мох краснел стыдом за руку,
Легко спустившую курок.
По капле в мох сочилась мука,
Слеза скатилась, как упрек.
Глаза — два родничка печали…
Ты позабыть их был бы рад.
Они молчали, но кричали:
«За что? Ну чем я виноват?!»
И гасли сосны в них как свечи,
И колыхалась в них лоза,
И были это человечьи,
По-детски мудрые глаза.
Добычу свежевать готовясь,
Охотник брел из-за куста.
…Был выстрел тот в людскую совесть.
Была убита… доброта.
— Ну как?
Аленка ничего не ответила, только сильно сжала Михаилу руку и надолго задумалась. Вот ведь как! Оказывается, Миша все-то, все помнит. И его лесные встречи не просто работа, вон как пропускает он их через сердце. А та ужасная схватка с браконьерами. Аленка чуть не умерла от жалости и страха, когда увидела раненого Михаила. Целую неделю она не отходила от его постели, меняла повязки и, может быть, именно тогда и решила стать врачом. С тех самых пор она и на цветы да травы разные стала смотреть глазами деда Якова, потому что травы и подняли так быстро с постели Михаила. Вот только на лице остались отметинки, рябоватый стал ее братик.
— Алена, хочешь, я угадаю, что тебе мама скажет на прощание?
— Угадай.
— Она скажет: «Аленушка, дитятко, ты уж почаще письма-то отписывай. И фотокарточку пришли. Там в городе-то, поди, есть хорошие фотографы».
— А что скажет Яков Макарович?
— «Ты, Аленка, на каникулы-то, того, домой приезжай. Не чужая ведь. И вообще на рыбалку сходим».
Аленка тихо и счастливо рассмеялась, повторив про себя очень хорошие слова: «Домой приезжай. Не чужая ведь». Они поднялись и пошли меж берез.
— Миша, а на песчаный берег сходим? Ну, не хмурься, разочек-то я могу еще на этих птиц посмотреть. А то ведь теперь когда снова увижу…
— Только издали. Знаешь, каки они пугливые…
Они прошли до самого лесничества и свернули к озеру Каянову. В молодом березняке остановились и стали ждать.
Вскоре на мелководье заросшего камышами Каянова появились большие грациозные птицы с величественным клювом, длинными тонкими ногами и странным оперением, будто на него падал свет ночного костра или заревое солнце.
— Это они? — прошептала Аленка.
— Да. Розовые фламинго.
Птицы выходили на песчаный берег рядами, потом перестраивались, разбивались парами и снова шли то строем, то хороводом. И чудилась в их танце музыка озерного края: музыка струн солнечных лучей, утренней ни с чем не сравнимой разноголосицы птиц, перешептывания камышей и шелеста тихих, омытых солнцем, светлых берез. Музыка вечной жизни, жизни, прекрасной как ныне, так и во веки веков.