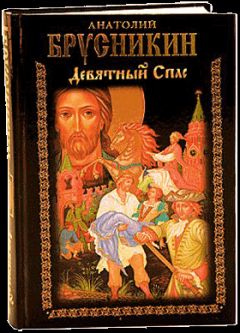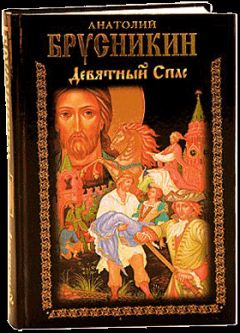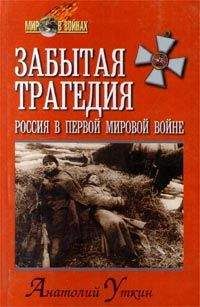Анатолий Брусникин - Девятный Спас
В таком жалком виде бывший казак и предстал перед гехаймратом.
Тот был сильно озабочен, поминутно выглядывал в окно – ждал то ли какого-то человека, то ли важной вести. Досталось всем: и шпигам, и особенно Дмитрию – за то, что засаду провалили. Оказывается, в то же самое время в Последнем переулке, где дом Зиновия Шкуры, шпиги упустили какого-то дьявола, который в одиночку покалечил семерых и ушёл. По описанию лиходей был похож на самого Фролку Быка. Как же Зеркалову было не беситься?
Митя сразу догадался, что это Ильша там малость пошумел, но выдавать друга, конечно, не стал. Да и вряд ли это известие укротило бы начальнический гнев.
Ругаясь на чём свет, гехаймрат несколько раз спрашивал своих, не вернулся ли сержант Журавлёв. Вот кого он, выходит, ждал – своего помощника, про которого Дмитрий слышал уже не в первый раз, но видеть пока не видел.
– Вон он, Журавлёв, – сказали наконец начальнику. Зеркалов к окну так и кинулся. Посмотрел и Дмитрий – любопытно.
Из маленькой двуколки неуклюже, спиной, вылезал несуразный человек в синем замусоленном кафтане и облезлой треуголке. Под мышкой у него был большой прямоугольник, обёрнутый в тряпку.
– Господи, Твоя воля… – отчётливо прошептал Автоном Львович. На его глазах, к Митиному удивлению, выступили слёзы.
Поймав изумлённый взгляд прапорщика, гехаймрат смущённо улыбнулся.
– Накричал я на тебя, Микитенко. А ты не виноват. Ты ведь хотел, как для дела лучше…
Слышать от грозного человека подобные слова было уж совсем поразительно.
Но размягчённым лицо начальника пробыло очень недолго – всего миг. Затем оно стало сосредоточенным. Зеркалов оглядел всех, кто был в избе: главного шпига Юлу, секретаря-подьячего, прочих и остановил выбор на Дмитрии.
Поманив за собой, отвёл в сторону и очень тихо, душевно попросил:
– Знаю я тебя мало, но вижу по манере, что ты человек надёжный и прямой. Не то что мои псы, – кивнул он на Преображенских. – Если дашь слово, то сдержишь. Так или нет?
– Так, – настороженно ответил Митя, ничего хорошего от этакой задушевности не ожидая… Но опасался напрасно.
Гехаймрат попросил о безделице: взять на конюшне лошадь, во весь опор слетать в Кривоколенный и сказать Петру Автономовичу, то есть сыну, чтоб немедля был в приказе и прихватил свою кавалету.
– Что?
– Кавалету. Он знает. Главное же – никому о поручении не сказывай. Ни сейчас, ни после. Честное слово?
Честным словом по пустякам не кидаются, поэтому Дмитрий ограничился кивком. Гехаймрату этого было достаточно.
– Вот ещё что. Как приедет сюда, пусть прямиком ступает в ермитаж и ждёт меня там.
«Ка-ва-ле-та, ер-ми-таж», мысленно повторил Никитин, запоминая непонятные слова.
– Всё исполню.
В сенях, где было темно, Дмитрий столкнулся с кем-то, поднявшимся с крыльца, и больно ушибся о жёсткий прямой угол. Это, очевидно, сержант Журавлёв тащил начальнику свою ношу. Шибануло пёсьим запахом давно нестиранной одежды и немытого тела.
Митя учтиво извинился. Встречный не ответил, явив невежье. И чёрт бы с ним.
«Снова увижу её», – думал Никитин и тем был счастлив – преступно, но необоримо.
* * *Дмитрий ведь не зря ночью не спал – это он с собой боролся. Человек чести не может дозволять, чтобы сердце брало верх над волей, потому что иначе чем отличается благородие от скотства?
Что счастья ему на веку не предписано, Никитин давно догадывался. По всему ходу жизни это было видно: дворянин без имени и вотчины, сын без отца-матери, отовсюдошный изгнанник. Однако последний из ударов судьбы застал его врасплох.
Когда тебе сравнялось тридцать, о всяком глупом уже не мечтается. Например, о заколдованных королевнах или прекрасных девах, чей взор, как родниковый ключ, чист и обжигающ. И дальнейший путь представляется тебе ясным: конь да сабля, ратные тяготы да лихая смерть.
И вдруг обнаруживаешь, что Прекрасная Дева существует, и взор у неё точь-в-точь такой, как грезилось, и голос, будто некогда уже слышанный во сне. Ради Неё ты свершил бы невиданные подвиги, преодолел бы любые препоны. А препона всего одна, но совершенно непреодолимая: единственная на свете дева – невеста друга, и, стало быть, страстно о ней мечтать есть низкодушие.
Поэтому всю ночь Никитин изгонял страстные мысли прочь. Преуспел в том мало.
Вот и ныне, въезжая в Кривоколенный переулок, ничего не мог с собою поделать – трепетал. Надежды, что при повторной встрече чары рассеются, у него почти не было. Поэтому слуге он строго, даже невежливо сказал, что желает видеть единственно молодого барина, по неотложной казённой надобности. Но, к его мучительству (увы, смешанному с наслаждением) встречать гонца вышли оба – и брат, и сестра.
На неё Дмитрий смотреть себе не позволил. Сухо поклонившись и отворотив лицо, он отозвал в сторону начальникова сына, вполголоса передал порученное – и про срочность, и про кавалету, и про ермитаж.
Юноша вежливо поблагодарил, сказавши, что предугадал волю родителя и кавалетто уже собрано. С этими словами он показал на плоский ящик лакированного дерева, к которому был прицеплен ремень, очевидно, для таскания на плече.
– Куда ты, Петруша? – раздался голос, от которого у Дмитрия по телу пробежало подобие озноба. – Зачем тебе кисти и краски?
Молодой наглец посмел ей не ответить и направился к выходу.
– Петя! Что с тобой нынче? Петенька!
Крик был обиженный, жалостный. У Митьши прямо сердце сжалось. Будь его право – надрал бы мальчишке уши, чтоб знал, как себя вести с драгоценнейшей из дев. Но права такого у Никитина не было. По-прежнему так и не взглянув на Алёшину невесту, он почтительно поклонился и хотел выйти вслед за недорослем.
Но случилось негаданное. Лёгкая рука коснулась Митиного локтя – и будто обратила витязя в камень.
– Сударь! Молю тебя!
Теперь уж не взглянуть на нее было невозможно. Он обреченно поднял глаза.
Господи милостивый, это лицо, сам того не зная, Дмитрий видел пред собой всякий день жизни. На белом свете только одно такое и существовало. Красивое оно или нет, он сказать бы затруднился. Это звёзды красивые. Иль облака. А Луна меж ними одна, и другой быть не может. Ах, отчего судьба столь жестока к человеку?
– Я тревожусь! Он со вчерашнего дня будто не в себе! Куда ты его вызвал? К кому? Ради Бога!
Отказать Ей, слёзно молящей, было бы злодейством. Но нарушить слово чести – всё равно что предать свою бессмертную душу, что доверена нам Господом во временное владение. Побледневший Дмитрий безмолствовал.
Видно, угадав в нём колебание, дева повела себя небывалым для русской барышни образом: схватила упрямца за кафтан и начала трясти.