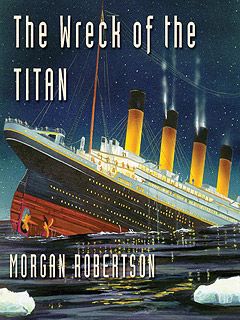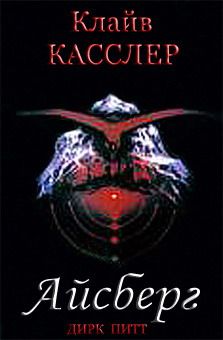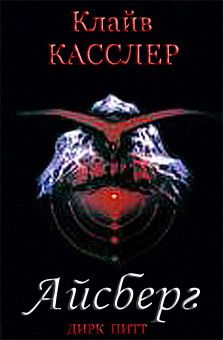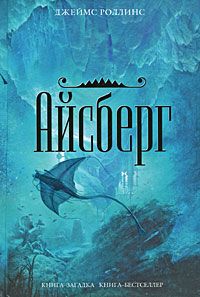Александр Дюма - Все приключения мушкетеров
– Ваше величество, – отвечал Пелисон, содрогнувшись от этих ужасных слов, – ваше величество, мы явились высказать вам лишь то, что выражает самое искреннее почтение, самую искреннюю любовь, которую подданные обязаны питать к своему королю. Суд вашего величества грозен; каждый должен склониться перед его приговором, и мы почтительно склоняемся перед ним. Мы далеки от мысли защищать того, кто имел несчастье оскорбить ваше величество. Тот, кто навлек вашу немилость, может быть нашим другом, но он враг государству. И, плача, мы отдадим его строгому суду короля.
– Впрочем, – перебил король, успокоенный этим умоляющим тоном и смиренными словами Пелисона, – приговор вынесет мой парламент. Я не караю, не взвесив тяжести преступления. Прежде весы, потом меч.
– Поэтому, проникнутые доверием к беспристрастию короля, мы надеемся, что, когда пробьет час, с разрешения вашего величества нам будет позволено возвысить наши слабые голоса в защиту обвиненного друга.
– О чем же вы просите, господа? – величественно спросил король.
– Государь, – продолжал Пелисон, – у обвиняемого есть жена и семья. Скудного его состояния едва хватило, чтобы рассчитаться с долгами, и со времени заключения ее мужа госпожа Фуке покинута всеми. Длань вашего величества поражает с такою же беспощадностью, как длань самого господа. Когда он карает какую-нибудь семью, насылая на нее чуму или проказу, всякий сторонится ее и бежит дома прокаженного или зачумленного; порой, но весьма редко, благородный врач решается подступиться к порогу, отмеченному проклятием, смело переступает его и подвергает опасности свою жизнь, чтобы побороть смерть. Он – последнее упование умирающего, он – орудие небесного милосердия. Государь, мы преклоняем колени, мы молим вас, как молят божественный промысел: у госпожи Фуке больше нет ни друзей, ни поддержки; она проливает слезы в своем разоренном и опустевшем доме, покинутом теми, кто осаждал его двери в дни благоденствия; у нее нет больше ни кредита, ни какой-либо надежды. Несчастный, которого поразил ваш гнев, как бы виновен он ни был, получает все же от вас хлеб свой насущный, каждодневно орошаемый им слезами. А столь же несчастная, обездоленная даже в большей мере, чем ее муж, госпожа Фуке, та, что имела честь принимать ваше величество у себя за столом, госпожа Фуке, супруга бывшего суперинтенданта финансов Французского королевства, госпожа Фуке не имеет хлеба.
Здесь тягостное молчание, сковывавшее дыхание обоих друзей Пелисона, было прервано взрывом рыданий, и д’Артаньян, слушая эту смиренную просьбу, почувствовал, как у него от жалости разрывается грудь; отвернувшись лицом в угол кабинета, он покусывал ус и подавлял готовые вырваться вздохи.
Глаза короля по-прежнему сохраняли выражение сухости, и лицо его оставалось суровым, но на щеках проступили красные пятна и взгляд потерял былую уверенность.
– Чего вы хотите? – спросил он.
– Мы пришли смиренно просить ваше величество, – сказал Пелисон, которым понемногу овладевало волнение, – дабы вы дозволили нам, не обрушивая на нас вашу немилость, предоставить госпоже Фуке в долг две тысячи пистолей, собранные среди прежних друзей ее мужа, чтобы вдова не испытывала нужды в самом необходимом для жизни.
При слове вдова, которое употребил Пелисон, хотя Фуке был еще жив, король заметно побледнел; его высокомерие сникло; жалость поднялась из сердца к устам. Он посмотрел растроганным взглядом на всех этих людей, рыдающих у его ног.
– Да не допустит господь, – сказал он, – чтобы я не делал различия между невинными и виноватым. Плохо же меня знают те, кто сомневается в моем милосердии к слабым. Я буду поражать только дерзких. Делайте, господа, делайте все, что подсказывает вам ваше сердце, все, что может облегчить страдания госпожи Фуке. Можете идти, господа.
Три просителя встали, безмолвные и с сухими глазами – соседство пылающих щек иссушило их слезы. У них не было сил поблагодарить короля, который к тому же резко оборвал их торжественные поклоны, быстро удалившись за свое кресло.
Король и д’Артаньян остались одни.
– Отлично! – похвалил д’Артаньян, подходя к молодому монарху, который как бы вопрошал его взглядом. – Отлично! Если бы вы не имели девиза, венчающего собой ваше солнце, я бы посоветовал вам один хороший девиз и заставил бы господина Конрара перевести его на латынь: «Снисходителен к слабым, грозен для сильных!»
Король улыбнулся и, переходя в соседнюю залу, на прощание сказал д’Артаньяну:
– Предоставляю вам отпуск, в котором вы, вероятно, нуждаетесь, чтобы привести в порядок дела покойного господина дю Валлона, вашего друга.
XXXVI. Завещание Портоса
В Пьерфоне все было погружено в траур. Дворы были пустынны, конюшни заперты, цветники заброшены. Прежде шумные, блестящие, праздничные, сами собой останавливались фонтаны. На дорогах, ведущих в замок, можно было увидеть хмурые лица людей, трусивших верхами на мулах или рабочих лошадках. Это были соседи, священники и судейские, жившие на прилегающих землях.
Все они молча въезжали во двор замка, поручали свою лошадь или мула унылому конюху и в сопровождении слуги в черном направлялись в большую залу, где на пороге их встречал Мушкетон.
За два дня Мушкетон до того похудел, что платье болталось на нем, как в слишком широких ножнах болтается шпага. По его бело-розовому лицу текли два серебристых ручья, прокладывавших для себя русло на теперь столь же впалых, как прежде полных, щеках. При появлении каждого нового гостя поток слез усиливался, и жалко было смотреть, как Мушкетон своей сильной рукой сжимал себе горло, чтобы не разрыдаться.
Все эти посетители собрались, дабы выслушать завещание, оставшееся после Портоса. На чтении его хотели присутствовать весьма многие – кто из корысти, кто по дружбе к покойному, у которого не было ни одного родственника.
Прибывающие чинно рассаживались в большой зале, которую заперли, как только часы отбили двенадцать ударов, то есть наступило время, назначенное для чтения завещания.
Стряпчий Портоса – это был, естественно, преемник г-на Кокнара – начал медленно разворачивать длинный пергаментный свиток, на котором могучей рукой Портоса была начертана его последняя воля.
Когда печать была сломана, очки надеты и кончилось предваряющее прокашливание, все приготовились слушать. Мушкетон сел в уголок, чтобы свободнее плакать и меньше слышать.
Вдруг только что запертая дверь большой залы словно по волшебству широко растворилась, и на пороге показалась мужественная фигура, залитая ярким полуденным солнцем. Это был д’Артаньян, который, доехав верхом до входной двери и не найдя никого, кто мог бы подержать ему стремя, собственноручно привязал коня к дверному молотку и отправился докладывать сам о себе.