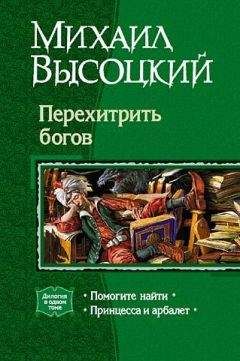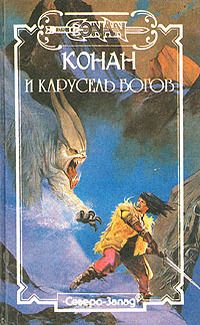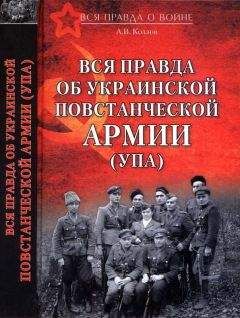Владимир Балязин - Дорогой богов
Христиан полагает, — заключил Штерн, — что на Рейнской таможне с вами так и поступили, подложив в ваш дорожный сундучок золотую табакерку и направив вас затем в гостиницу «Золотой Лев», чтобы знать, где потом эту табакерку можно будет легко обнаружить.
Ваня молча выслушал Штерна и наконец спросил:
— Так что же мне теперь делать?
Штерн развел руками и, поглядев на стену, за которой находился Шубарт, горестно произнес:
— Даже он не знает, как вам помочь. Уж больно ловко Эти канальи обстряпывают свои делишки.
…За несколько часов перед тем, как Ваню вызвали к коменданту, Шубарт через отверстие под печкой передал ему пачку листов, мелко исписанных с двух сторон. Пристроившись возле открытой печной дверцы, при слабом свете маленьких язычков пламени, скачущих по обугленным поленьям, Штерн молча листал рукопись и тихо читал по-французски печальную повесть о жизни Христиана Фридриха Даниэля Шубарта, которую он просил передать на волю своим друзьям и почитателям…
— «Подобно мертвому в могиле, я лежу на дне колодца, единственная влага которого — мои слезы. У меня не было ни книг, ни бумаги, ни грифельной доски, ни пера, ни карандаша, и все же я составил это жизнеописание. Так как писание было мне строжайше запрещено, я прятал рукопись под полом… О друг мой, оказавший мне помощь в составлении этих кратких записок, как я благодарен тебе! Родители твои, не наделив тебя знатностью, в избытке дали своему сыну ум, доброту и благородство помыслов. И я благославляю судьбу, что еще на свободе я охотно водился с простым людом, памятуя о том дне, когда верховный судья не спросит „Был ли ты знатен?“, а „Был ли ты добр?“. Я отдаю на суд человечества краткие записки о последних днях моей жизни на воле и о жизни своей в тюрьме.
В 1774 году в Аугсбурге я предложил книгопродавцу Штаге писать для него «Немецкую хронику» взамен его лопнувшего «Швабского журнала». Этот поступок повлек за собою массу несчастий, но даже и сейчас я не жалею, что поступил так, а не иначе. В то время, когда власть духовенства и князей обрушивалась на всякое проявление свободного чувства, да еще в городе, который менее всех других немецких городов мог терпеть такую горячую голову, как я, ни одно занятие не могло быть для меня опаснее ремесла журналиста. Вилять хвостом перед князьями, даже если они подлецы, трезвонить направо и налево о празднествах, охотах, парадах, прославлять каждый благосклонный кивок головы, каждый слабый проблеск человеческого чувства, отвешивать поклон каждому придворному псу — все это было не для меня. И в одном из номеров я поместил анекдот о немце, который, покидая Лондон, подбросил вверх шляпу со словами: «О Англия! Набрать бы в эту шляпу хоть пригоршню твоего юмора и твоей свободы!» После чего бургомистр Аугсбурга фон Кун воскликнул в сенате: «В наш город пробрался бродяга, который требует для своего бесстыдного листка целую пригоршню английской свободы. Не видать ему и наперстка!»
После чего я вынужден был покинуть Аугсбург, и газета моя стала выходить в Ульме у Вагнера. С самого же начала я допустил большую неосторожность, напав на только что запрещенный орден иезуитов, который отнюдь не скончался, а был всего лишь поверженным исполином, сбивавшим с ног и уничтожавшим каждого, кто дерзал приблизиться к нему.
Дело дошло до того, что мой девятилетний сын, живший в Аугсбурге и учившийся в школе почтенного ректора Мертенса, вынужден был спать в одной постели с ректором, ибо иезуитские молодчики по ночам засыпали спальню воспитанников градом камней.
Я сам не мог по вечерам возвращаться домой в одиночку и ходил в окружении толпы моих почитателей. Но однажды солдаты бургомистра схватили меня и вывели из города. Через некоторое время я оказался в Ульме, городе, который гордился своей веротерпимостью и сохранением республиканских традиций. Но когда я поближе познакомился с жителями Ульма, я заметил, что некогда гордое республиканское чувство угасло у большинства из них. Они пресмыкаются, льстят, подкупают, пока не получают должностей, а затем глодают полученную кость, и — пусть идет прахом твердыня их общественной свободы! И здесь-то, в Ульме, произошел случай, о котором я до сих пор не могу говорить без содрогания.
Один юрист-католик, по имени Никель, вопреки обычаю, поступил в протестантский университет в Тюбингене, расположенный в полутора милях от Ульма. Он частенько навещал меня, и мы беседовали с ним о разных предметах. Но однажды, находясь в каком-то католическом кабачке, он неосторожно обронил вольтеровскую фразу, слышанную им в Тюбингене. Его схватили и кинули в темницу Вейблингенского монастыря и затем, как гласил приговор, из милосердия и сострадания, обезглавили и сожгли как богохульника, а пепел развеяли по ветру.
В смерти Никеля католики обвинили меня, распространив слух, что еретических вольтерьянских идей он набрался в разговоре со мною. К тому же дела мои как издателя и редактора «Хроники», которую я все еще выпускал, пошли совсем уж неважно: с каждым номером «Хроники» количество моих врагов увеличивалось и, что самое опасное, немалое их число жило рядом со мною в Ульме.
Я понял, что немецкий журналист, если он хочет остаться целым и невредимым, должен быть умным и холодным, хитрым, гибким и увертливым, а не пламенным, открытым глупцом с душой нараспашку, который так же мало способен управлять своим пером, как и языком.
Вместе с тем действительность, окружающая меня, казалась мне все более и более мерзкой. Сравнивая, например, швейцарцев с моими соотечественниками, я убеждался, что швейцарец — это исполин среди немцев, житель имперского города — его тень, а княжеский прислужник — не более как фарфоровая кукла, которой потешаются дети. Каждому, кто томится и здесь в тюрьме, и за ее стенами в оковах деспотизма, я говорю: поезжай в Швейцарию, чтобы знать, каких людей создает свобода! А потом — ко дворам, чтобы увидеть, как коверкает человека рабство, пока он не станет таким маленьким, что начнет пресмыкаться… И так как я искренне любил свое отечество, мне бывало мучительно видеть, как наш народ начинает во всех отношениях заметно опускаться: ибо никто не замечает этого легче, чем журналист или критик. Он видит деспотов на месте защитников народа; эмиграцию в Россию и Америку — вместо спокойной жизни у родного очага; мечи — вместо серпов, жнущих траву и колосья, тортовые дома, пришедшие в упадок; в искусстве — расслабленные, жалкие таланты, которые никому не светят; выродившихся, утопающих в роскоши, богатых бюргеров…
Штерн замолк. Затем, вздохнув, продолжал:
— 23 января этого года меня пригласил к себе в гости монастырский чиновник Шолль из Блаубейрена. Мы сели в сани, лошади резво тронули, и вскоре я оказался в тихом и сонном Блаубейрене, находившемся во владениях герцога Вюртембергского. Едва я и Шолль вошли в его дом, как следом за нами явились начальник местного магистрата граф Шпонек и майор фон Варенбюлер. Они объявили мне, что по приказу герцога Карла Евгения я арестован и они должны свезти меня в одну из Вюртембергских тюрем.