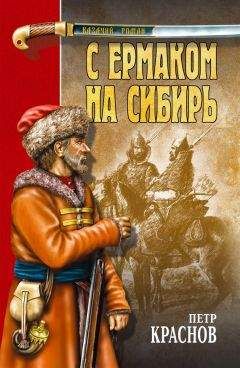Петр Краснов - Белая свитка (сборник)
Когда профессор кончил речь и, поклонившись собранию, вышел из барака, в бараке настала жуткая, напряженная тишина. Дверь с минуту оставалась открытой. В морозной ночи видны были костры военного бивака на поляне. Все было бело кругом и ветер гнул сосны в лесу. Как под белой тюлевой занавесью в снегах была деревня.
Академик Карпинский подошел к Бархатову.
— Слышали?.. А?.. Какое знание психологии толпы! Как жаль, что академик Бехтерев скончался. Ведь все по Ардан-дю-Пику построено и слажено. Согнали, оглушили неожиданностью, поразили организацией полевого обеда, электричества, всего устройства… А вы поглядели бы сзади… Места устроены… надписи: «для дам», «для мужчин»… Какова предупредительность!.. В глаза бьет после наших-то массовок, где люди, как скот, толкутся. Покоряет… И вот этой-то покорной толпе, готовой воспринять какую угодно идею, в блестящей лекции преподносится идея — монархическая… И заметьте: ни слова о прошлом, никакой критики советского строя…
— Если не считать намек на «хамов».
— Это уж к слову пришлось. Уж очень это слово к нам прилипло. Ведь после этого, умело появись вождь, и будут готовы служить… безоговорочно…
Он хотел продолжать, но остановился, прислушиваясь. В звуки бури влилась томящая, зовущая, родная мелодия. Малиновым «Валдайским» звоном звенели, приближаясь, троечные звонки. У дверей, наружи, раздалась команда равняемого караула.
«Да, — подумал Бархатов, — именно так должен появиться вождь. Не в рычании и гудках капиталистически-демократического автомобиля, последнего слова рабочей индустрии, а в заливистом звоне русской тройки, этого Гоголевского образа крестьянской, земледельческой России. Как все это “у них” продумано!»
В отверстие дверей стала видна серая, занесенная снегом тройка. Из саней вышел человек. Раздался ответ на его приветствия караулу.
«Однако как рубят, по-старому, по-русскому», — подумал Бархатов и стал смотреть на входившего.
«Так вот он какой — Белая Свитка!»
Вошедший был высокого роста, в белой шубе, стянутой тонким ремнем. По воротнику и борту шуба была обшита соболем. На голове была серая папаха. Снег с него наскоро смахнули в дверях и он весь еще сверкал множеством мелких капелек, горевших алмазами. Казалось — радужное сияние шло от него. Разрумянившееся на морозе и ветру лицо горело.
— Какой он восхитный, — прошептала сзади Бархатова балерина Глюком. Она не говорила «отвратительный», но по-модному «отвратный», а вместо «восхитительный» сама придумала «восхитный». Она считала, что это умно и оригинально.
Бархатов задумался… Молнией пронеслись в его голове мысли. Быстрой кинематографической лентой развернулись образы виденных им за все эти годы последних народных кумиров.
Он вспомнил грязного Ленина, с небритой щетиной бороды и с вислыми монгольскими усами, дышащего смрадною вонью давно немытого и страдающего несварением желудка человека, — такого, каким появился он на площади у Финляндского вокзала, еще при Керенском, несомый на плечах рабочими. Грязновато одетый, в ватном пальто, в шарфе, с большими калошами на грязных ногах. Засунув кепку в карман… Да, его назвать «восхитительным» было трудно… Мразь… Слизь из отхожего места…
Он вспомнил Троцкого — в английском помятом френче и галифе, с обмотками на кривых жидовских ногах, с типичным горбоносым лицом, в пенсне… Непрезентабелен был и этот. Сходил своим криком за начальника. Гипнотизировал толпу злобною силою. Встало в его памяти и хорошо знакомое лицо Зиновьева, лохматого, ожиревшего актера из плохого местечкового театра.
То были вожаки… Вожаки шаек, способных громить и разрушать.
Сейчас перед ним стоял вождь… Своею чистою, опрятною, красивою одеждой, своею смелою поступью, осанкой он уже поразил толпу, а поразив ее, он ее победил заранее.
Вот он какой — «Белая Свитка», — призрак, висевший около года над всем Советским Союзом и воплотившийся теперь перед их собранием. Брат Русской Правды, вождь и быть может наместник еще иного, Верховного Вождя.
В этот миг Бархатов с необычайной ясностью почувствовал, что сопротивление бесполезно. Он осмотрел столпившихся вокруг него правителей Ленинграда и понял: сопротивляться не будут. Исполнят все, что будет приказано.
Белая Свитка снял папаху и подошел к владыке под благословение.
Потом отошел, стал перед серединой толпы, окинул ее смелым взглядом блестящих глаз, — на ресницах сверкали растаявшие снежинки, — и… приказал.
— Господа! Приказываю вам… как только вас отвезут в Санкт-Петербург…
Он назвал город точно, его старым, полным именем, четко выговаривая его. Каждым слогом, как гвоздем, он будто вколачивал в сердца слушателей большие, медные, Петровского стиля буквы этого священного имени. «Санкт-Петербург»… В этом коротком и тяжко упавшем в тишину слове, казалось, звучало: был и будет… Другому имени не быть… Санкт-Петербург — город Святого Петра. Камень Российской Империи.
— Приступить с полным усердием к исполнению ваших обязанностей… Нарушать устоявшегося быта я не буду. Я буду его выправлять по той линии, которая вам была только что перед моим прибытием указана. Каждый из вас останется на своем месте до тех пор, пока не будет признано, что он не может… не хочет… не умеет… понять требования Русской Национальной власти… Вам помогут… Вас, где надо, научат… В частности вас поддержит эмиграция, которая явится сюда не для того, чтобы вас гнать или вами командовать, но для того, чтобы вернуть вам русские навыки, вытравленные из вас годами владычества чуждой России власти…
Он сделал паузу. Он казался огромным великаном перед толпою маленьких ничтожных людей… Господином среди рабов.
— Надо остановить разрушения… Приступить к созиданию. Надо уничтожить то, что разрушало, разъедало, растлевало Россию.
Он отыскал в толпе Бархатова и направил на него волевой луч своих ясных глаз.
— Вы снимете позорные памятники преступникам и безумцам… Восстановите старые монументы великому прошлому России и его творцам со всеми старыми надписями.
Он перевел глаза на Воровича. Было ясно, что он знал, кто чем заведует.
— Вы вернете исторические имена улицам и площадям. Разнузданную молодежь приведете к повиновению родителям и вере в Бога. Родителей заставите признавать своих детей и воспитывать их.
Он посмотрел на митрополита.
— На вас, владыко, мое упование. Вы восстановите монастыри, и они станут школами воспитания христианского духа, местами изгнания бесов из ими одержимых. Вы дадите пастырей добрых в школы всех ступеней, во все воинские части, учреждения, приюты, тюрьмы и больницы, во все приходы. Вы восстановите везде проповедь и Богослужение во всем его благолепии. Возрастите мне виноград добрый в державе Российской. — Он отыскал глазами группу академиков и профессоров. — Вы, господа академики и профессора, выметете мне сор из легкомысленно, в угоду толпе, испорченного русского языка. Восстановите мне грамоту и слог Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова и Толстого. Изгоните нечленораздельные звуки советского телеграфного кода из речи, печати и стихов, не допустите впредь в печать ничего, что оскверняет и засоряет живой русский язык. Довольно покровительства пролетарской мерзости! Установите цензуру нравственной чистоты и художественной красоты. Надеюсь, господа, вы меня поняли? Потрудитесь же точно исполнить все мои приказания. Коммунизм умер — Россия жива. И будет жить, и шириться, и расти тысячи лет. Да поможет вам Бог!