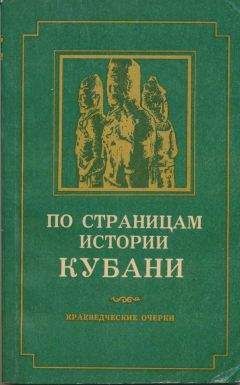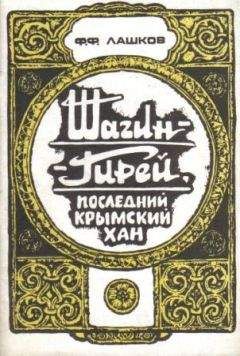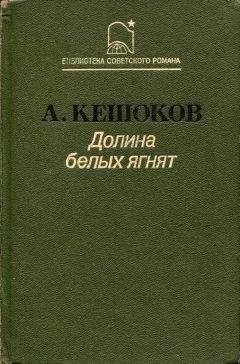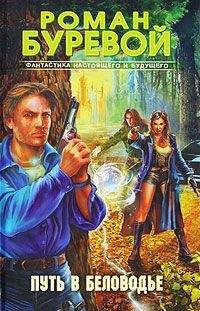М. Эльберд - Страшен путь на Ошхамахо
— Нальжа-а-ан! — раздался сбоку жалобный голос. — А что, Куанч не человек, что ли? Вот не буду тебе ничего рассказывать!
— Ах ты, мой хороший! — она ласково тряхнула его за плечо, и Куанч едва устоял на ногах. — Да глаз ты моих отрада! Ведь если бы вместо тебя сейчас тут стоял Кубати, я бы только о тебе и спрашивала.
— Ладно! — расплылся в счастливой улыбке Куанч. — Все буду тебе рассказывать.
— Мы с тобой, дружище Эммечь, тоже поговорим. Только попозже. — На губах Канболета промелькнула чуть виноватая застенчивая улыбка. — Пойду я.
— Иди, иди, сын Тузарова. А я здесь буду, — в голосе Нальжан прозвучали решительные нотки.
Канболет перешагнул порог гостевой комнаты и остановился у входа.
— Гупмахо апши![151] — поприветствовал он собравшихся, стараясь не слишком громыхать своим басом.
Кургоко чуть вздрогнул, рука его непроизвольно потянулась к чаше, которую он сразу же подал Джабаги, а тот в свою очередь протянул ее Тузарову. Канболет выпил пряную махсыму, подождал, пока «кравчий» наполнил чашу снова, и с поклоном вернул ее Казанокову. От Казанокова она пошла по назначению дальше, и круг замкнулся на тхамаде — старшем, затем воцарилось напряженное молчание. Князь вперил свой тяжелый, исподлобья взгляд прямо в глаза Канболета. Тузаров спокойно, без вызова этот взгляд выдержал. Джабаги не без некоторого волнения (впрочем, тщательно скрываемого) посматривал то на Хатажукова, то на Тузарова. Сейчас Джабаги подумывал, не нарушить ли молчание первому и не назвать ли имя нового гостя. И то и другое, конечно, против обычая, но Казанокову приходилось порой отступать и от более неукоснительных правил: бывали такие случаи, когда интересы дела оказывались поважнее, чем соблюдение какихто тонкостей из адыге хабзе.
Но вот Кургоко сам вывел Джабаги из трудного положения:
— Таким, значит, стал сын Каральби… — Ни Джабаги, ни Канболет никак не ожидали, что князь сам узнает (или угадает), с кем имеет дело. — А видел я тебя совсем мальчишкой еще. Какое слово у тебя есть ко мне? Я готов выслушать. Только не стой там в дверях, садись.
— Прежде чем сесть, — начал Канболет, — я скажу то, что тебя, светлый князь, сейчас больше всего интересует: сын твой жив, не ранен, свободен. И он так близко, что может легко услышать мой зов.
Джабаги заметил, как у князя перехватило дыхание. Кургоко чуть торопливей, чем следовало, взял чашу и отхлебнул из нее.
— Ну, твой голос, Тузаров, можно услышать и с границ Малой Кабарды.
Все, кроме Канболета и самого князя, сдержанно рассмеялись.
— Давно я не был у этих границ, — сказал Канболет нарочито равнодушным тоном.
— Хочешь услышать от Хатажукова, считает ли он тебя виноватым в том, что ты давно не бывал на родном берегу?
Канболет молчал.
— Скажу тебе прямо: я верю, что не ты был зачинщиком. Верю, что раньше погиб твой отец, а уже после — мой брат Мухамед. Но мне очень трудно поверить в то, что Мухамед, каким бы он не был необузданным, убил Исмаила.
— Это видел Кубати. Он подтвердит.
— Мне хотелось бы услышать подтверждение и от… Шогенукова.
— Примешь ли, светлый князь, мою клятву, что я приведу тебе этого предателя на аркане, если только он не потеряет свою вшивую голову до встречи со мной? Ведь, в сущности, смерть твоих братьев и моего отца — на его совести.
— Да… подстрекательство опаснее клинка и пули… И еще скажу тебе, смело смотрящему в глаза старших: мое доверие или недоверие, мои добрые чувства или недобрые, пока я до конца не разберусь в этой истории, не будут руководить моими поступками, — и, обращаясь вполголоса к Джабаги, — хорош я был бы сейчас, подавая пример любителям искать шерсть в яйце… Это накануне татарского набега…
Джабаги сверкнул радостной белозубой улыбкой:
— Хочешь сказать, чтоб аталык позвал своего кана?
— Считай, что сказал.
Канболет вышел на порог и крикнул:
— Кубати-и!
Лошади на дворе вздрогнули, а где-то в темноте, со стороны моста, послышался дробный цокот копыт.
Тузаров, не останавливаясь теперь у двери, вошел снова в хачеш, приблизился к самому очагу и сел на место, предложенное ему еще в начале встречи с Кургоко.
И снова стало тихо. Только на этот раз молчание было не таким, как во время первого появления Канболета. Все замерли в ожидании события, которое все еще казалось несбыточным.
У входа раздались звуки быстрых шагов, и в дверном проеме возник юноша.
Его большие черные глаза, по-взрослому умные, но и по-детски доверчивые, обвели взглядом всех присутствующих и остановились на Хатажукове.
Князь встал из-за своего столика-трехножки:
— Подойди-ка поближе, маленький мальчик.
Кубати подошел. Он был ростом с отца. Хатажуков положил руку на плечо сына и, обратившись к Тузарову, спросил:
— Надеюсь, без подмены? — тут впервые улыбка озарила хмурое лицо князя.
Кубати ткнулся лбом в отцовскую грудь. Кургоко провел ладонью по его затылку:
— Ну иди, постой возле аталыка. Ты пока еще не у себя дома, — он сел поудобнее на скамью и громко сказал:
— Будем делать все, как полагается по нашим обычаям. Аталык сам доставит своего кана в отчий дом. Устроим праздник. На восходе луны я уезжаю. А ты, мой брат Джабаги, останься. Подождите один день, а на следующий трогайтесь в путь вместе с Тузаровым и его воспитанником. А сейчас пейте да слушайте повнимательнее Каральбиева сына, который не откажется, наверное, рассказать нам о последних событиях.
* * *…Кубати придерживал стремя, когда отец садился на коня. Хатажукову захотелось услышать хоть несколько слов от сына.
— Скажи мне, маленький мальчик, — тихо спросил он, — ты, может быть, понял там из разных разговоров, когда крымцы думают начать набег?
Кубати ответил деловито, без колебаний:
— Как только наши земледельцы закончат жатву.
Хатажуков понимающе кивнул головой и, кажется, хотел сказать что-то еще, но тут подошел Канболет с панцирем в руках:
— Это, мой уважаемый князь, тот самый… Бесценный и злополучный. — Панцирь и в лунном свете сиял загадочно и маняще, мягко искрился голубыми отблесками.
— Тот самый? Понятно теперь: от такого булата заболит голова у кого угодно. Даже если она и не покрыта паршой, как у моего приятеля Алигоко.
— А я буду рад от него избавиться, Кургоко. Возьми наконец эту бору маису и сделай так, как вы еще с моим отцом договаривались. Пусть панцирь достанется победителю на праздничных игрищах.
— Тогда он все равно достанется тебе, — усмехнулся Кургоко.