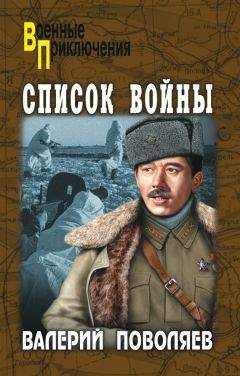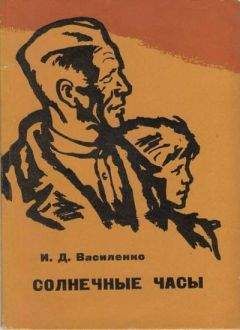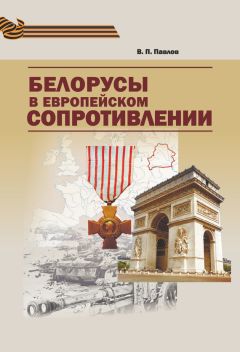Валерий Поволяев - Бросок на Прагу (сборник)
Беда, как и радость, обязательно накладывает на человека отпечаток, и хотел бы иной гражданин стереть с себя след беды, да увы…
И цвет глаз у встречных людей одинаковый — белесый, старческий, будто на роговицы наполз туман. Что же происходит с вами, дорогие земляки? Впрочем, питерцы никогда друг друга, кажется, не звали земляками — находили для этого другие слова, а земляк, земеля — это уральское, волжское, коми-пермяцкое, сибирское и какое там еще слово? Москвичи тоже друг друга земляками не зовут.
Дома Борисов не раздеваясь завалился на кровать, запрокинул голову, изучая потолок, но изучить не успел — раздался стук в дверь.
— Эй, хозяин!
Борисов нехотя поднялся, подбрел к двери.
— Есть ли тут кто-нибудь живой?
Какой страшный — по сути — вопрос: есть ли тут кто-нибудь живой?
— Есть… Кто там? — просипел Борисов в дверь и удивился своему голосу — чужому и далекому.
— Есть живые, выходит. Е-есть, — обрадовался человек, стоящий за дверью. — Открывай! Почта!
Подрагивающими руками Борисов отпер дверь, увидел в сумраке лестничной площадки веселого вислоухого старика, которому каждый день приходится выполнять миссию совсем не веселую — многие питерцы просто бояться видеть почтальонов, ждут их и обмирают, горбятся, когда видят. За почтальоном стоял еще кто-то низенький, с плоским стертым теменью лицом, в черном матросском бушлате, на котором свежими светлыми пятнами просвечивали начищенные пуговицы.
— Товарищ Борисов? — Почтальон, накрыв ладонью усы, стянул их вниз, к подбородку.
— Да, Борисов. Честно говоря, думал, что на почте уже забыли меня, — неуклюже пошутил Борисов.
— Немудрено забыть, — согласился почтальон, — связь, почтамт не работают. Да и кто пишет блокадникам-то? Если только из трамвая номер пятнадцать? — Почтальон ступил в сторону, освобождая место низенькому матросу в черной форме. Борисов невольно поморщился: «Похоронная форма!» — Вот товарищ к вам, — сказал почтальон.
— Войти можно? — густым, не соответствующим росту и стати басом спросил матрос.
— Можно, — Борисов отер глаза ладонью — веки у него неожиданно начало щипать, появились слезы, почтальон и моряк расползлись в этой мокрети. Он сделал шаг в сторону, освобождая проход.
Моряк вошел, держа перед собой пакет, завернутый в марлю — Борисов глянул на эту марлю, мятую, невесомую, словно бы двадцать раз выстиранную, сразу понял — госпитальная.
— Я, пожалуй, не буду мешать. — Почтальон привычно собрал свои висячие запорожские усы в горсть. — А, товарищ моряк?
— Идите, — сухо бросил тот, не оборачиваясь. — Спасибо за помощь!
Старик что-то пробормотал и скрылся в вязком растворяющем сумраке лестничной площадки. Некоторое время были слышны его шаркающие шаги, потом все стихло.
— Значит, так, — проговорил матрос грустно и приподнял марлевый сверток, замялся, отвернулся в сторону, — значит, так… Володька Яковлев был моим другом… Вы знали Яковлева? — неожиданно спросил он, и Борисову показалось, что внутри у него что-то оборвалось, будто там возникла пустота, в пустоту бросили кусок дымящегося искусственного льда, какие до войны мальчишки выклянчивали у морожениц, когда на круглый, с двумя хрустящими вафельными дольками брикетик не хватало денег, а выклянчив, затаив дыхание, наблюдали, как дымящийся шкворчащий кусок искусственного льда шевелится, пофыркивает, тает на горячем асфальте, и глаза у пацанов делались зачарованными: они были свидетелями волшебства. Но есть лед было нельзя — дымящееся стылое чудо считалось ядовитым — один паренек из борисовского двора попробовал — его увезли в больницу. — Значит, так, — повторил тем временем моряк в третий раз. — Знали?
— Знал.
— И я знал, — сипло вздохнул моряк, — это был мой друг.
— Был? Почему был? — спросил Борисов и ужаснулся обыденности и нелепости этого вопроса, стиснул губы, сжал их в сухую морщинистую щепоть.
— Это был святой человек. — Моряк опять вздохнул, у него была манера повторяться: он дважды, а то и трижды повторял свои слова, повторял свои движения и жесты, словно бы утверждая их, это было его натурой, привычкой, от которой ему уже никогда не избавиться. — Володька никогда не жил для себя — жил для других.
— Что с ним? — быстро, уже не боясь ответа, спросил Борисов.
— Мы с ним вместе находились в разведке, ползали на ту сторону к фрицам. А что такое ползать на ту сторону, когда все простреливается, каждый сантиметр истыкан пулями? Если что-то шевельнулось — бьют по этому шевелению, не раздумывая, — и не промахиваются. Все пристреляно. Человек, когда попадает в это пространство, оказывается… ну как голый на снегу!
Очень зримый образ создан моряк: голый на снегу, — Борисов поежился.
— Сколько не ползали наши ребята за языком — все впустую. А в тот раз повезло, взяли одного ротозея, до ветра вышел. Потащили к себе. Ночь темная, ракету повесят — замираем, сгорит ракета — снова ползем. Расстояние хоть и малое, локтями можно измерить, а не доползли. — Лицо пришедшего перекосилось, сделалось бледным, и эта бледность заставила Борисова подумать: уж не с раной ли ходит моряк? Тот в свою очередь тоже отметил восковую бледность, покрывшую лицо Борисова, спросил: — Может, вам надо полежать?
— Что? — не понял Борисов. Смутился. — Не надо.
— Не доползли мы, фрицы нас накрыли. Мы поволокли языка дальше, а Володька, — моряк пожевал губами, приподнял марлевый узелок, — он прикрывал нас. Залег в воронке и прикрывал до последнего патрона. Вот и все. — Моряк помолчал немного, продолжая жевать губами, лицо у него оставалось странно скошенным, будто у него зажало какую-то мышцу. — Он много раз вспоминал про вас и… еще вспоминал женщину. Вот как ее зовут, я забыл.
— Светланой зовут. Светлана она…
— Совершенно точно. Поскольку близких у него нет, то и ежели что случится…
— Как нет близких? У него в Липецке мать.
— Была раньше, а сейчас нет. В общем, Володька велел, чтобы вещи его передали вам.
— Почему нам? — чувствуя, как внутри у него что-то немеет, спросил Борисов.
— Странный вопрос, — сказал моряк.
Действительно странный вопрос. Дурацкий вопрос.
— Где его похоронили?
— Двое суток он пролежал в воронке, мы не могли его вытащить, потом у немцев был пересменок, слазили, достали. В теле насчитали сорок шесть пробоин. Вот так, значит. — В горле у моряка что-то булькнуло, он отвернулся и в тяжелой, какой-то зловещей, полой тиши Борисов неожиданно услышал, как бьется его сердце — учащенно, болезненно громко. — Сорок шесть пуль! Похоронили его там же, на пятачке.