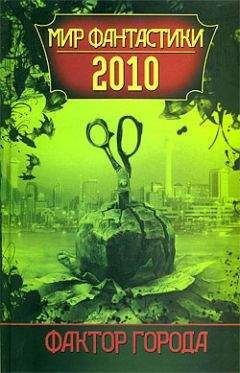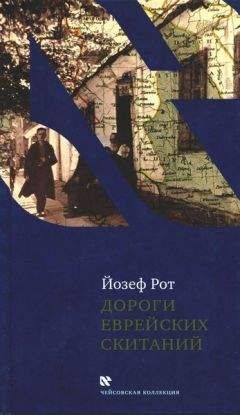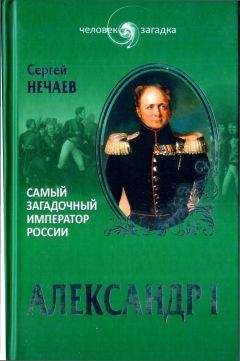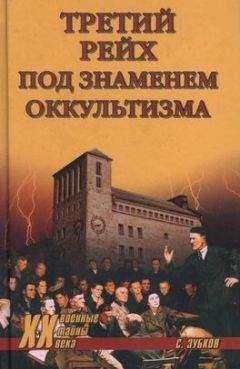Алексей Иванов - Тобол. Много званых
От Петра Алексеевича Ремезову была другая милость. Когда пятнадцать лет назад Семён Ульянович с Леонтием были в Москве, царь приказал им исполнить сводный «Чертёж сибирских градов и земель». Ремезовым выдали полотнище лощёной бязи шести аршин в длину и четырёх в поперечнике и пустили в хранилище Сибирского приказа. В нужный срок Ремезовы принесли назначенный чертёж. Царь пожаловал их «выходом» – сукном и пятью рублями, и сразу же заказал «Чертёжную книгу Сибири» – новый изборник из двадцати четырёх карт на дорогой александрийской бумаге.
Эту книгу Ремезовы делали уже дома и все вместе – и Леонтий, и Семён, и даже Иван, который тогда ещё жил с отцом в Тобольске. Книга получилась красивая, словно напрестольное Евангелие: реки голубые, горы жёлтые, леса зелёные, подписи – киноварью. Фолиант увезли в Москву – и он ухнул в безвестность. Виниус удрал в Голландию, воеводу князя Черкасского сняли с места, и некому было сообщить в Сибирь изографу, как принят его труд.
Безвестность угнетала больше всего. Семён Ульянович радел не о славе своего имени и не о наградах; ему по- юношески хотелось, чтобы его Сибирь была открыта для обозрения. Неужели там, в столицах, никого не смущает, что половина вселенной погружена во мрак незнания? Бог есть свет, и как можно мириться с тенью? Швед Филипка Табберт, хоть и явный хитрец, внёс свечу в эту тьму, а Матвей Петрович говорит, что огонёк надо погасить…
Табберт теперь часто наведывался к Ремезову. Они сидели в мастерской и разговаривали – не только о китайском пути по Иртышу, а обо всём. Семён Ульянович рассказывал про Хабарова и Атласова, про монголов и якутов, про мамонтов и курганы, про Лхасу, Камбалык и Багдад, про Великую стену и Шёлковый путь, про пустыню Гоби и Байкальское море, про поднебесные Тибецкие горы и мёртвое озеро Лоб-Нор, про необозримые болота Васюгана, где живут трясинные чудовища, и заброшенный город Мангазею. Табберту было интересно всё, его усища от любопытства торчали, словно мётлы.
Он и в этот раз пришёл, улыбаясь, как лошадь. Он вытер ноги о тряпку, повесил на гвоздь треуголку и потёртую епанчу, потрепал по голове Айкони, которая, как обычно, расположилась на полу у печи с вышивкой, сел на лавку напротив Ремезова и достал из-за отворота камзола исписанную тетрадь в две дести. На первой странице было начертано: «Записки Избранта Идеса о русском посольстве в Китайскую страну с лета 7200 по лето 7203».
– Григорий найти мне у епископ, – пояснил он. – Очень познавательный ди рейзе нах Азиен. Это русски, а я писать себе дёйч. Симон, давай делать обмен. Я тебе это читать, а ты мне дать рисовать свой изображение Иртыш.
Ремезов задумчиво пролистал тетрадь.
– Не могу, Филипа, – грустно сказал он. – Матвей Петрович запретил мне дозволять тебе чертежи перечерчивать. Смотреть их, толковать про разные земли – за милую душу, а чертить нельзя.
– Потчему? – удивился Табберт, ещё улыбаясь.
– Ты швед. У нас война.
– Король Карл дойти до Иртыш?
– Да не знаю я! – рассердился Ремезов. – Только запретил губернатор, и всё! Мне-то разве жалко? Но какая- нибудь подьячая сволочь нацарапает донос, чтобы выслужиться, и упекут меня в Преображенский приказ!
– Альзо, но это большая печаль, Симон, – сухо сказал Табберт, спрятал тетрадь обратно за отворот камзола, встал и пошёл к своей одежде.
– Ты будешь говорить со мной? – спросила его Айкони.
– Этот день нет, – надевая треуголку, бросил Табберт.
Айкони тихо млела, когда Табберт являлся в гости к Ремезову. Она не сомневалась, что на самом деле князь приходит увидеть её – ведь он порвал заговорённый волос. С весны Табберт взял в привычку после разговора с Симоном подолгу беседовать с Аконей. Он запросто усаживался рядом с дикаркой на пол и расспрашивал обо всём: какие дома у остяков и какие лодки, что остяки помнят о своей древности и своих предках, какие боги живут под землёй, в реках, лесах и на небе, и за что каждый бог отвечает. Табберт просил Айкони рисовать родовые катпосы жителей Певлора и объяснять, что означают изображения, вытканные бисером или вышитые из лоскутков. Табберта интересовало, что остяки слышали о других далёких землях, об устье Оби и великом ледяном море. Айкони говорила ему, как по-хантыйски называются вещи и явления, а он сам произносил разные слова и спрашивал, понятны ли они. Он рассказывал всякие сказки про людей, что плавали на больших лодках со змеиными головами, про их героев, про богов и чудовищ, и ему хотелось знать: не кажутся ли ей эти сказки знакомыми?
Айкони сразу поняла, зачем князю эти разговоры. Конечно, князь хочет сбежать из русского города к её народу, сбежать и жить вместе с ней и с другими остяками, – для этого он и выпытывал про обычаи и привычки остяков. Айкони терпеливо ждала, когда князь наберёт достаточно познаний, почувствует себя готовым к побегу и скажет ей: «Вставай, мы с тобой уходим в тайгу». Но сегодня сердитый Семульча чем-то оскорбил князя, и князь покидал его дом в гневе и досаде. Айкони чувствовала, что князь не хочет больше бывать здесь. Её охватило отчаянье.
– Ты злой старик! – крикнула Айкони Ремезову. – Злой!
Ремезов опешил, а девчонка вскочила и бросилась из мастерской. Она вылетела на крыльцо, но двор подворья был уже пуст – князь ушёл. Айкони, рыдая, кинулась в загон к собакам. Только Чингиз и Батый понимали её, только они чуяли, как она любит князя и как ждёт побега на свободу.
А Табберт отправился не к себе домой, а к Новицкому. Ему не хотелось оставаться наедине со своей неудачей.
Новицкий, одетый в голубой стихарь, расшитый крестами и цветами, сидел в своей каморке на топчане. Он выглядел усталым и опустошённым.
– Почему на вас церковные одежды? – удивлённо спросил Табберт по-немецки. – Разве вы теперь клирик, Григорий?
– Я только что вернулся со службы в Софийском соборе, – по-немецки ответил Новицкий. – Ещё не успел снять облачение. Я простой чтец, но митрополит Иоанн благословил ношение стихаря. Это честь.
– Я возвращаю вам сочинение посланника Избранта, – Табберт выложил на стол тетрадь. – Благодарю вас за участие в моих изысканиях. Но сегодня меня постигло глубокое разочарование. У вас не найдётся выпить, Григорий? Хочу прибегнуть к старому солдатскому способу излечения.
Новицкий молча достал с полки бутыль с брагой и поставил две кружки.
– Плен угнетает не своими тяготами, а тем, что тебя лишают самого дорогого, – философски заметил Табберт и разлил брагу.
Самым дорогим для него была возможность интересно работать. А Новицкому сейчас казалось, что самое дорогое для него – родина.
– Я всегда думал, Ёхан, что отчизна – это моё государство и его порядок жизни, – признался Новицкий. – И только здесь понял, что это не так.