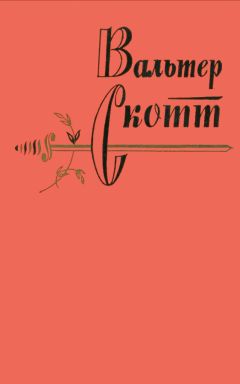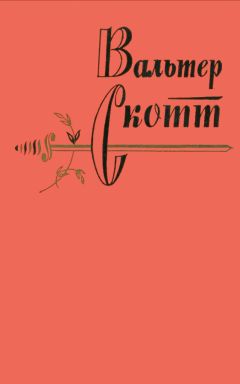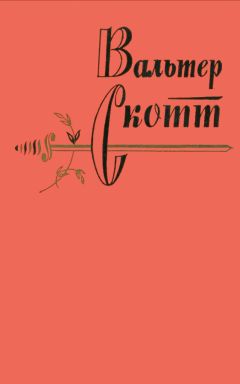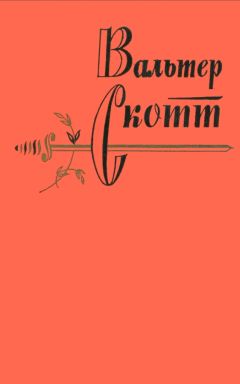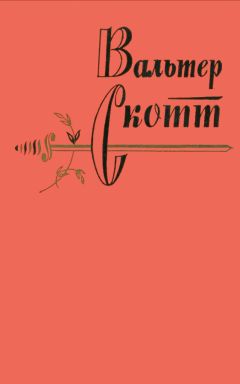Вальтер Скотт - Аббат
Годы наложили свой отпечаток на этого вельможу, но не согнули его. По его отличной выправке и крепкому телосложению было видно, что он еще вполне пригоден для изнурительных бранных трудов. Его густые с проседью брови низко нависали над пылавшими мрачным огнем глазами, взгляд которых казался еще мрачнее оттого, что они были необычайно глубоко посажены под лобными выступами.
Его чертам, и так-то сильным и жестким, придавали дополнительную суровость несколько шрамов, оставшихся от полученных в битвах ран. На голове у него был открытый стальной шлем без забрала, но с козырьком, который, выдаваясь вперед, затенял лицо, от природы не способное, казалось, выражать что-либо иное, кроме простых и грубых чувств; черная с сединой борода, ниспадавшая на латный воротник, полностью скрывала подбородок и щеки сурового старика барона. Он был одет в куртку из буйволовой кожи, которая некогда имела шелковую подкладку и была украшена дорогим шитьем, но теперь была вся в пятнах от долгого ношения в походах и попорчена разрезами, по-видимому приобретенными в битвах. Под курткой у него был нагрудник из вороненой стали с красивой позолотой, теперь уже, однако, во многих местах тронутый ржавчиной. С перевязи, надетой на шею, свисал меч старинной выделки и огромных размеров, который можно было поднять только обеими Руками, — вид оружия, в то время уже выходивший из употребления; он был подвешен так, что протягивался наискось вдоль всей фигуры барона: огромная рукоять выдавалась над левым плечом, а нижний конец почти касался правой пятки и при ходьбе стукался о шпору, Это громоздкое оружие можно было вынуть из ножен, только вытаскивая его из-за левого плеча, потому что никакая человеческая рука не могла бы извлечь его обычным способом — так непомерно был он длинен. Все это снаряжение говорило о том, что его носитель — грубый воин, пренебрегающий своей внешностью вплоть до какого-то мизантропического аскетизма; а властный, жесткий, надменный тон, которым он разговаривал со своими людьми, был лишним свидетельством того, что его натура именно такова.
Человек, ехавший рядом с лордом Линдсеем, являл своими манерами, фигурой и лицом полную противоположность барону. Его тонкие, шелковистые волосы уже совсем поседели, хотя на вид ему было не больше сорока пяти — пятидесяти лет. Голос у него был мягкий и вкрадчивый, худощавая, поджарая фигура сутуловата, бледное лицо несло на себе выражение проницательности и ума, взгляд был живым, но не беспокойным, а вся повадка — располагающей и благожелательной. Он ехал на иноходце, таком, каким обычно пользовались для передвижения дамы, а также священники и другие люди мирных занятий; одет он был в черный бархатный костюм для верховой езды и носил шляпу с пером такой же темной окраски, прикрепленным к тулье золотой медалью; при нем была, — и то скорее для виду и в качестве признака его звания, нежели для действительной нужды, — прогулочная шпага (так называли в то время короткую легкую рапиру) — и больше никакого оружия, с помощью которого можно было бы нападать или обороняться.
Теперь отряд уже выехал из города и продолжал ровной рысью двигаться на запад.
Чем большее расстояние оставалось позади, тем сильнее овладевало Роландом Греймом желание узнать что-нибудь о цели и смысле их путешествия, но человек, рядом с которым его поместили в кавалькаде, имел такое выражение лица, что была очевидной безнадежность всякой попытки завязать с ним непринужденную беседу. Сам барон выглядел не более мрачным и недоступным, чем этот его вассал, рот которого был закрыт устрашающими усами, как крепостные ворота — опускной решеткой, словно нарочно для того, чтобы из него не могло вырваться ни единое слово, если в произнесении такового не было совсем уж настоятельной необходимости. Другие всадники, по-видимому, заразились молчаливостью от своего предводителя и ехали, не обмениваясь друг с другом ни словечком, отчего походили более на странствующих картезианских монахов, нежели на отряд вооруженных ратников.
Роланд Грейм был удивлен такими крайностями дисциплины, ибо хотя в доме рыцаря Эвенела довольно строго соблюдался этикет, но в походе людям позволялось чувствовать себя вольготней: они могли свободно петь, шутить и вообще как угодно веселиться и коротать время, разумеется не нарушая при этом благопристойности. Непривычная для Роланда тишина имела, однако, то преимущество, что благодаря ей у него было время здраво поразмыслить, в меру своей способности делать это, о своем нынешнем и будущем положении, которое всякому благоразумному человеку должно было бы показаться в высшей степени опасным и затруднительным.
Ему было ясно, что он, в силу разных обстоятельств, над которыми никак не был властен, вступил в противоречивые связи с обеими соперничающими партиями, борьба которых между собой расколола страну, и при этом, в сущности, не примыкал ни к одной из них. Казалось также несомненным, что его экзальтированная родственница Мэгделин Грейм прочила его на то же самое место в личном штате низложенной королевы, на которое он сейчас был назначен по представлению самого регента; несколько слов, оброненных Мортоном, пролили свет на многое; но при этом столь же несомненно было и то, что оба эти лица — регент, возглавлявший новое королевское правительство, и Мэгделин, считавшая, что это правительство преступно узурпировало власть, один — ярый враг католической религии, а другая — ревностная его сторонница, — рассчитывали на совершенно различные услуги со стороны кандидата, в выборе которого они сошлись.
Весьма нетрудно было сообразить, что, поскольку обе стороны требуют от него услуг совершенно противоположного характера, он может вскоре оказаться в таком положении, когда и его чести и жизни станет угрожать серьезная опасность. Но не в натуре Роланда Грейма было заранее думать о беде, пока она не пришла, и готовиться к преодолению трудностей, пока они еще не встали перед ним.
«Я увижу эту прекрасную страдалицу, — сказал он себе, — Марию Стюарт, о которой так много говорят, а там у меня будет достаточно времени, чтобы решить — быть ли мне за короля или за королеву.
Ни одна, ни другая сторона не могут сказать, что я дал слово или обещание быть верным именно ей, потому что обе они бесцеремонно распорядились мной, не спросив моего желания и даже не объяснив предварительно, для каких дел меня предназначают. Но как удачно, что сегодня утром в кабинет регента вдруг пожаловал Мортон! Иначе мне волей-неволей пришлось бы дать честное слово, что я буду делать все то, чего хочет от меня Мерри, хотя это, по сути, низкое коварство по отношению к заточенной несчастной королеве — подобрать ей такого пажа, который бы шпионил за ней».