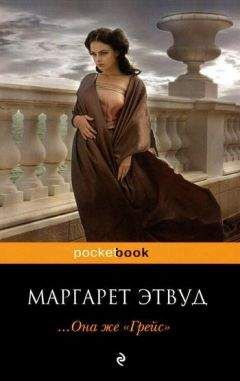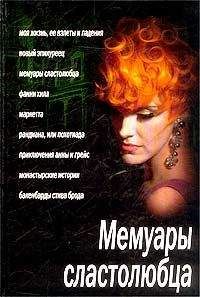Юрий Дольд-Михайлик - И один в поле воин
– Да, да, к обрыву, к обрыву, к обрыву! – стучал кулаком по столу и вскрикивал Заугель.
Миллер, пошатываясь, прошёл в свой кабинет и через минуту вернулся с книжкой.
– Вот реестр, распишитесь!
Заугель проворно схватил авторучку и склонился над книгой. Генрих увидел, как против фамилии Людвины Декок появились четыре слова. «Приговор приведён в исполнение. Заугель»
– Ганс! – Генрих тронул Миллера за плечо. – Можно вас на минутку? Миллер отошёл с Генрихом чуть подальше от стола.
– У меня к вам маленькая просьба. Ганс, разрешите мне выполнить этот приговор! Ваш Заугель всё равно не способен это сделать. А мне эта женщина нравится… вы меня понимаете?
– А, святой Антоний не устоял перед искушением! Пожалуйста! Развлекайся сколько угодно! – Миллер перешёл на ты. – Хочешь остаться здесь или желаешь отвезти её к себе? Только чтобы ни одна душа не видела!
– Можешь быть спокоен, у меня есть ключ от чёрного хода.
– И до утра постарайся всё кончить! Заугель, объясните барону, где вы это делаете! Тьфу, он уже спит! Ну, тогда я сам тебе расскажу. Из нашего переулка вверх идёт дорога прямо к скале, что над речкой. Ты ставишь её на край обрыва, стреляешь или толкаешь – и ни одна душа не знает, кто здесь был пущен в расход, река отнесёт тело далеко на юг и так его изуродует…
– Понятно. А теперь прикажите отвести красотку в машину и во что-нибудь завернуть. Пусть её постережет автоматчик, пока мы с тобой выпьем ещё по одной. Ну, наливай, а то у меня руки дрожат… верно, с непривычки.
– О, в первый раз всегда так бывает. – Миллер снисходительно потрепал Генриха по плечу. – Ничего, привыкнешь!
Был третий час ночи, в гостинице уже все спали, и Генрих незаметно провёл Людвину Декок к себе в комнату. Женщина всю дорогу молчала и по лестнице шла, словно лунатик, не глядя под ноги, не касаясь руками перил. Только в номере она словно проснулась – впервые за весь вечер Генрих услышал её голос.
– Мерзавец! – крикнула Людвина. – Ещё отвратительней того палача с лицом херувима!
Обессиленная взрывом ненависти и гнева, она пошатнулась, но когда Генрих приблизился, чтобы помочь ей сесть, оттолкнула его с неожиданной силой.
– Не подходите, я всё равно не дамся живой!
– Хорошо, я не подойду. Но вы всё-таки сядьте, Людвина Декок! Я сейчас позову мадемуазель Монику, и она…
– Я не знаю никакой Моники!
– И она вам всё объяснит.
– Повторяю, я не знаю никакой мадемуазель Моники!
– Тогда я вам напомню: это та девушка, которая передала вам в Бонвиле сведения о поезде и которая сегодня встречала свою кузину на вокзале.
– У меня здесь нет ни одной знакомой души, и никто меня не встречал.
– Хорошо, мы сейчас проверим…
Генрих подошёл к телефону и набрал номер. Очевидно, звонка ждали, трубку тотчас сняли.
– Моника, прошу немедленно зайти ко мне в номер, – услышала Людвина спокойно произнесённые слова, и сразу же глаза её застлал туман, и она почувствовала, что проваливается в бездну.
Помолвка, похожая на похороны
«Получил отпуск с двадцать пятого января на десять дней. Четвёртого февраля ты должен быть в Мюнхене. Целую. Отец».
Это скорее напоминало приказ, чем приглашение.
Телеграмму Бертгольда Генрих получил на адрес штаба и тотчас же пошёл к генералу.
Но Эверс не стал читать телеграмму.
– Знаю, знаю! Мне позавчера звонил Бертгольд, и я пообещал отпустить вас. Но больше чем на пять дней отпуск предоставить не могу. Проинформируйте моего друга об обстановке, в которой мы живём, чтобы у него не создалось впечатления, что я чересчур строг со своими офицерами. Впрочем, я уверен, он не хуже вас осведомлён о том, что здесь происходит. В другое время я охотно отпустил бы вас на месяц, но сейчас…
– Очень вам благодарен, герр генерал.
Итак, снова придётся ехать в Мюнхен.
О цели поездки знал только Миллер. Даже Лютцу Генрих решил пока не говорить о своих отношениях с дочкой Бертгольда. Ведь у гауптмана свой взгляд на вещи, не всегда совпадающий с общепринятым среди большинства офицеров.
– Ну что же, Генрих, поезжай, – вздыхая, говорит Лютц. – Надеюсь, ты узнаешь у отца такие вещи, о которых наши газеты и радио даже не упоминают. А так бы хотелось знать обо всём, что происходит. Надоело быть кротом: закопали в эту яму, и сиди, ничего не зная, ничего не видя.
Дни, оставшиеся до отъезда, промелькнули быстро. Пришлось ещё раз съездить в Понтею – принять вновь построенный дот, отвезти пакет в Шамбери, выполнить несколько мелких, но хлопотливых поручений.
С Моникой из-за всех этих дел Генрих виделся один раз: девушка пришла к нему сообщить, что с Людвиной Декок всё в порядке – она в полной безопасности. Моника так переволновалась за Людвину и за Генриха, что теперь прямо сияла от счастья, и Генрих не решился сказать ей о поездке в Мюнхен.
Но больше Генрих скрывать не мог, накануне отъезда он зашёл в ресторан предупредить, что вечером придёт прощаться.
Мадам Тарваль встретила его упрёками:
– Мсье Гольдринг, вот уже три дня, как вы не переступали порог моего ресторана! Я понимаю, мы доставили вам столько хлопот…
– Упаси боже, мадам! Я просто не хотел причинять вам лишние заботы. Ведь теперь, как никогда, туго с продуктами. Хозяин казино, где мы обедаем, и тот жалуется, а он получает всё необходимое без ограничения и в первую очередь.
– Но я ведь не закрыла ещё ресторан! Как бы туго с продуктами ни было, для вас, мсье, всегда что-нибудь найдётся.
– Очень тронут, мадам, вашим отношением. Я его чувствую на каждом шагу. И сейчас очень грущу оттого, что мне придётся на несколько дней разлучиться с вами и мадемуазель Моникой.
– Как, вы снова уезжаете? Когда и куда? – Моника старалась скрыть волнение, но лицо её сразу стало печальным.
– Завтра утром, в Мюнхен.
– О, снова в Мюнхен!
– На этот раз всего на пять дней. На моё счастье, генерал не может отпустить меня на более длительный срок.
– И вы забежали проститься вот так, на минуточку! – обиделась Моника.
– Я пришёл попросить разрешения заглянуть к вам сегодня вечером. Мы так давно с вами не виделись!
Но вечером Генриху не пришлось встретиться с Моникой. Неожиданно пришёл Лютц.
– Ты что же нарушаешь традиции, Генрих? Вечер перед отъездом полагается проводить в компании друзей.
– Конечно, не мешало бы организовать прощальную вечеринку, но сейчас это покажется несвоевременным, Карл, даже неприличным. Дела на фронте не так блестящи…
– Говори прямо – плохи.