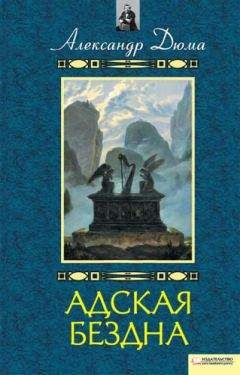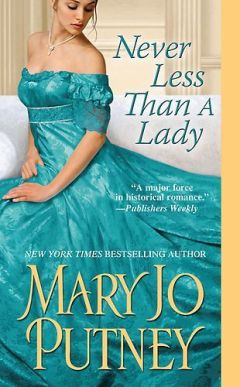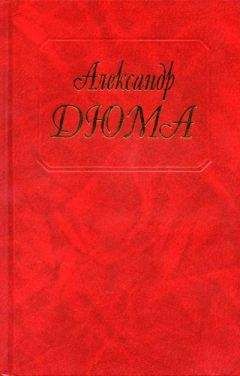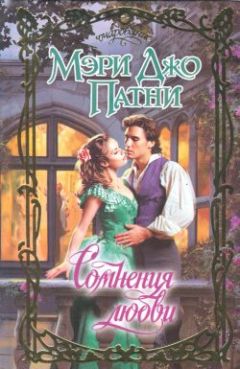Александр Дюма - Адская Бездна
— Но и мы, — подхватил один из замшелых твердынь, — в свою очередь тоже ответим вам так, как пристало настоящим шиллеровским разбойникам, не покинувшим своего предводителя. Хотя наша доблесть кое в чем уступает их заслугам, ведь товарищи Карла Моора рисковали телом и душой, нам же, господа, насколько мне известно, не угрожают ни ваши пули, ни ваши лекции.
— Но, в конце концов, — не выдержал профессор, — каковы же те условия, на которых вы согласитесь вернуться в Университет? Чего вы требуете?
— На это подобает ответить не мне, а Самуилу Гельбу, — отрезал тот же университетский старожил.
— Да, Самуилу! Самуилу! — закричала толпа.
— Что ж, послушаем, что за претензии у господина Самуила Гельба, — едко проронил посланец Университета. — Хотя бы любопытства ради мы не прочь узнать, каковы его пожелания.
Самуил взял слово, приняв тон, достойный Кориолана:
— Явившись сюда ставить нам условия, вы ошибочно трактовали свою роль, господа, — величественно обратился он к профессорам. — Нам пристало не выслушивать требования, но диктовать их. Итак, выслушайте наше решение и передайте тем, кто вас послал, что обжалованию оно не подлежит. Полностью амнистировать всех, в том числе меня, — это само собой разумеется. Но этого мало. Бюргерам, сделавшим попытку грубо обойтись с Трихтером, надлежит явиться сюда и принести подобающие извинения. В качестве военной контрибуции долги Трихтера отныне должны считаться погашенными, и, сверх того, ему должно быть выплачено пятьсот флоринов в возмещение ущерба. Наконец, по тысяче флоринов компенсации должен получить каждый из студентов, раненных в уличной баталии. Только на таких условиях мы согласимся вернуться в Гейдельберг. Если же вы ответите «Нет», мы скажем «Благодарим». А теперь, Трихтер, выведи посланцев Академии за пределы Ландека.
Профессорская троица сочла ниже своего достоинства произнести хотя бы слово в ответ и удалилась с довольно жалким видом.
Самуил же, спокойно обратившись к своим актерам, сказал:
— Продолжим репетицию, господа. Тех, кто не участвует в спектакле, прошу нас оставить.
Репетиция уже подошла к концу, когда Юлиус сказал Самуилу, что он отправляется за Христианой. Несмотря на все умение владеть собой, Самуил не смог сдержать радостного восклицания:
— А, так она придет! — И торопливо прибавил: — Ступай же, Юлиус, да поспеши, ведь уже смеркается. Как только совсем стемнеет, мы начнем.
Юлиус ушел, а Самуил, объятый чуть ли не подлинным тревожным волнением, отправился надевать театральный костюм.
Час спустя Юлиус возвратился в сопровождении Христианы. Студенты почтительно приветствовали г-жу фон Эбербах. Для нее заранее приготовили особое место в первом ряду, в стороне от толпы.
Сердце Христианы сильно билось, ведь это был первый раз, когда ей предстояло близко увидеть Самуила после его дерзкого вызова.
Представление началось среди общего молчания, исполненного благожелательного внимания.
LIII
«РАЗБОЙНИКИ»
Как известно, «Разбойники» — вопль возмущения против старого общества, причем самый душераздирающий, дерзкий, яростный, какой только можно представить. Карл Моор, сын графа, объявляет войну установленному порядку вещей и господствующему от его имени правосудию и становится разбойником, чтобы по-своему судить и карать зло; творя преступления, он сохраняет в душе столь возвышенные идеалы, такую гордость и порывистость, что симпатии публики неизменно оказываются на стороне этого изгоя и даже кажется, будто все его мятежные деяния отмечены знаком истинной правоты.
Шиллеровская пьеса, широко известная в Германии, для пылкого юношества стала предметом особого поклонения, ею восторгаются все, кто считает себя свободными и верит в свои силы. Среди гейдельбергских студентов вряд ли нашелся бы хоть один, не знающий «Разбойников» почти наизусть. Но впечатление, внушаемое этим шедевром, было для них вечно новым, только оно с каждым разом становилось глубже. И в тот вечер они воспринимали создание немецкого гения так, словно оно им открылось впервые.
Тем не менее первая сцена не произвела должный эффект: публика ждала появления Самуила. Зато во второй сцене, как только Карл Моор вышел на подмостки, все сердца невольно сжались от предвкушения чего-то необычного и пленительного.
Высокий рост, лоб мыслителя, взор, полный горечи, презрительная складка губ, страстность, пренебрежение к расхожим добродетелям, бунт против мелочной тирании общественного уклада — казалось, все черты Карла Моора воплотились в личности Самуила.
Хотя сам Самуил Гельб в глубине души полагал себя фигурой более значительной, нежели Карл Моор, ибо тот ополчался только на людей, а он бросил вызов самому Господу, тем не менее Христиана имела все основания сказать себе, что бесчестный соблазнитель Гретхен не идет в сравнение с душегубом из богемских лесов, ибо тот прятал любовь в глубине своего сердца, а этим движет ненависть.
Но для тех, кто за игрой Самуила не прозревал его действительной жизни, происходящее на сцене создавало потрясающую иллюзию подлинности. Когда занавес поднялся и глазам зрителей предстал Карл Моор, погруженный в чтение Плутарха, в позе Самуила чувствовалось такое величие, вся манера держаться была полна такой значительности, что при одном его виде раздались единодушные рукоплескания.
А сколько сарказма слышалось в его голосе, когда он, большими шагами меря сцену, начал произносить свою знаменитую тираду:
— «Это мне-то сдавить свое тело шнуровкой, а волю зашнуровать законами? Закон заставляет ползти улиткой и того, кто мог бы взлететь орлом! Закон не создал ни одного великого человека, лишь свобода порождает гигантов и высокие порывы… Поставьте меня во главе войска таких же молодцов, как я, и Германия станет республикой, рядом с которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями!»[15]
Но вот Карл Моор, отвергнутый своим отцом в пользу недостойного брата, яростно восстает против общества, которое изгоняет его, и соглашается быть атаманом своих приятелей, ставших разбойниками. Самуил, верно, вспомнил о несправедливости собственного отца, покинувшего его, ибо ни один великий лицедей не достигал такой глубины и правдивости подлинного чувства, как он, когда вскричал:
— «Убийцы, разбойники! Этими словами я попираю закон!.. Прочь от меня, сострадание и человеческое милосердие! У меня нет больше отца, нет больше любви!.. Так пусть же кровь и смерть научат меня позабыть все, что было мне дорого когда-то! Идем! Идем! О, я найду для себя ужасное забвение!»