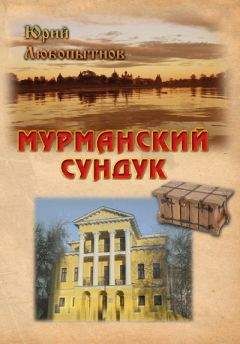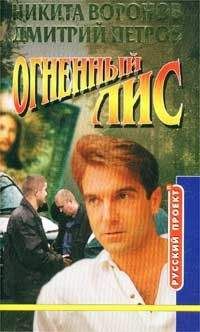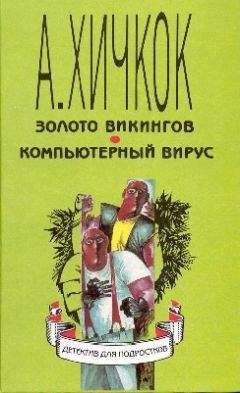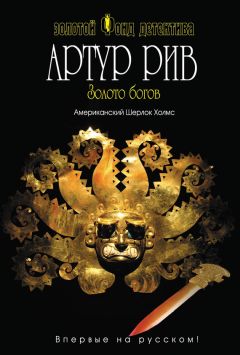Юрий Любопытнов - Огненный скит
Последнее большое дело, которое затеял поручик, сулило огромные деньги. Поэтому он двумя руками ухватился за него, в душе радуясь, как ему повезло — он поправит дела одним махом и нужды не будет знать до своего смертного часу. Не зря говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло…
Поручик лежал на широкой кровати в полутёмной комнате.
Занавески на окнах были отдернуты, но стояла пасмурная погода, к тому же накрапывал мелкий дождь, и свету в его опочивальню проникало мало. На комоде с перламутровыми инкрустациями, слегка потрескивая, горела восковая свеча, бросая красные отблески на оклады двух икон, стоявших рядом.
Тогда зимой, в лютую стужу, догола проигравшись на вечере у полковника Власова, злой и пьяный после бессоной ночи, в полдень он велел своему кучеру Фролке заложить лошадь в сани, чтобы ехать домой. Было морозно и ветрено и его подвыпившие дружки отговаривали от поездки, ссылаясь на ужасную погоду, но он решительно отмахнулся — поеду! Для того, чтобы скоротать дорогу, взял с собою бутылку рома. В дороге, видимо, одолел свою бутылку и Фролка, потому что вдруг загорланил песню, слышанную не раз от гостей хозяина, когда в гостиной, устав от карт и вина, один офицер под гитару, часто певал её. Фролке она нравилась. Там было много непонятных слов, но они брали за сердце. И Фролка, напрягая всю силу лёгких, орал в лесу:
Спалив бригантину султана,
Я в море врагов утопил.
И к милой с кровавою раной,
Как с лучшим подарком приплыл.
— Фролка! — прикрикнул на него барин. — Хватит орать! Смени репертуар. Кричишь на всю ивановскую. Я не глухой.
Фролка замолчал. А потом, пригубив из бутылки, опять запел, нахлёстывая лошадь, на сей раз частушки, певаемые в деревне в тоскливые дни, когда кого-то забривали на царскую службу.
Погуляем, сколько знаем.
Покутим, сколько хотим.
После праздника Николы
Мы в солдаты покатим.
Ты, маманя, встань поране,
Вымой лавочки с песком.
Увезут меня в солдаты
— Ты заплачешь голоском.
Фролка дёрнул вожжи:
— Шевелись, милая! Чего рассиропилась?
И снова запел:
Не вино меня шатает —
Меня горюшко берёт.
Я не сам иду в солдаты,
Меня староста ведёт.
Во солдаты отвезут,
Одежду ротную дадут.
На головушку башлык,
Возле боку острый штык.
Поручик задремал. Из всех слуг он снисходительнее чем к другим, относился к Фролке. И не потому, что тот был сиротой, и также закладывал за воротник, как и поручик. Иногда канючил, стоя на коленях, чтоб ему дал барин двугривенный на опохмелку. Даже за это он не серчал особо. Ворчал, что пристал, как банный лист, но монетку бросал. К остальным же был строг до самодурства и даже старого Мефодия, камердинера, охаживал под горячую руку тростью по спине, проявляя необузданный характер. А Фролке всё сходило с рук. Барин, когда выпивал изрядно, был слезлив не в меру. Фролка мастерски играл на балалайке и пел. В минуты обильного слезоточения поручик звал Фролку с балалайкой и приказывал играть и петь, а иногда и плясать. Развалясь в кресле, слушал, курил трубку и вытирал слёзы рукавом халата. Щедро одаривал Фролку, после чего тот пускался в очередной загул. А барин наутро был, как всегда, сердит, хмур и вспыльчив.
Фролка замолк, отдав все права лошади, выпустив вожжи из рук. Ехали впросонь, с дороги сбились… Но этого не помнит Олантьев. Очнулся он в сильном бреду и никак не мог понять, где он и что с ним происходит. Порывался отыграться в карты и звал полковника Власова сесть за карточный стол…
В скиту пробыл почти месяц, там и узнал, что с ним приключилось. Когда они сбились с дороги, было уже темно, волки погнали лошадь. Его подобрали возвращающиеся из города с базара скитники, полуживого и полуобмороженного, привезли в скит. Фролка сгинул. После нашли его истерзанное хищниками тело далеко от дороги.
Поместили барина в отдельную келью, заботились и ухаживали, как могли, поили и мёдом, и отваром из кореньев и трав, мазали опухшее тело мазями. Душеспасительные речи вёл с ним старец Кирилл, зело премудрый и благолепный старовер, а обихаживал молодой скитник Серафим. За время, проведенное в скиту, поручик даже осознал вначале, что его прежняя жизнь была суетой и томлением духа. Размеренная, лишённая мирских утех жизнь в пустыне, подвигла его на пересмотр доселе прожитого и содеянного.
Глядя на тусклые отблески пламени лампадки в окладах старинных образов, читая в душе покаянные молитвы, поручик подошёл к осознанию того, что надо менять образ жизни. Но это было до того, как однажды, когда дело настолько у него пошло на поправку и поговаривали, что скоро он может отправиться восвояси, старец Кирилл, думая, что больной постоялец спит, подошёл к иконостасу и взял одну икону. Он стоял спиной к поручику и что-то выдвинул, проверил и опять задвинул, поставил образ на место и оглянулся на барина — спит ли он. Олантьев крепко зажмурил глаза и для вящей убедительности два раза всхрапнул. На ночь его не оставляли одного — в келье кто-нибудь находился: или Серафим, или другой, молодой скитник Пётр. Днём они уходили по какому-либо делу, и если не приходил старец Кирилл, на некоторое время поручик оставался в одиночестве.
Как-то случилось быть ему одному. Он встал с лавки и босой на цыпочках подкрался к иконостасу, взял в руки небольшую тёмную икону древнегреческого письма и стал рассматривать, полагая, что старец не зря так долго около неё увивался, должно быть проверял, на месте ли что-либо примечательное. Но в чём оно заключается? Икона как икона, таких много в деревенских домах, где живут истинно верующие. На ней был изображён то ли Николай угодник, то ли Илия пророк. Она была выщерблена в одном углу, потускневшая и закопчёная, утратившая былые краски, которыми была писана. Смотрел он, но ничего не обнаружил, потряс, но тоже ничего не нашёл. Нечаянно двинул перекладину, что скрепляла доски, и заметил, что она подвинулась, как крышка пенала. Под ней в выемке лежал свёрнутый в трубку небольшой кусок то ли толстой бумаги, то ли пергамента. Развернув и прочитав свиток, он еле совладел с собой. Ноги обняла мелкая дрожь и слабость. То была опись ценностей, хранившихся в скитской ризнице. Более всего его поразила запись: «…сундук мурманский кованый в три локтя длиной и полтора шириной, с двумя замками тайными, а пудов в нём три с четвертью… А в нём денги золотом, фряжские и свейские, и ромейские и лалы, яхонты и самоцветные камни, узорочье чеканное, обронное сребро и золото, зенчуга разные».
Олантьев трясущимися руками свернул свиток, положил в выемку, задвинул крышку, поставил икону на место и бросился в постель. Лицо пылало жаром, сердце бешено колотилось. Лёг он вовремя. Буквально через полминуты вошли Серафим с Кириллом. Кирилл по привычке сел на низенькую скамеечку в изголовье и стал расспрашивать о здоровье. У Олантьева был возбуждённый вид, что дало повод старцу спросить: