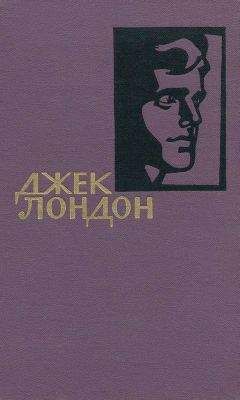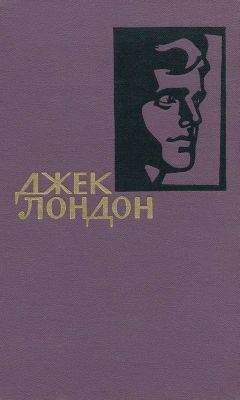Пантелеймон Кулиш - Чёрная рада
— Эге! С доброй руки подарок, на добро и служит!
С этими словами Кирило Тур вышел из светлицы.
Бруховецкий проводил его до другой двери.
— Ложись спать, пане гетмане, сказал Кирило Тур на прощанье, не беспокойся. Перед рассветом снился тебе твой сон, перед рассветом я его и оправдаю.
И пошел он сгорбившись через двор в своем странном наряде. Темнота скрывала его от любопытных. Впрочем и при свете дня никто бы не узнал в нем теперь ни молодецкой походки, ни стройного росту: он казался дряхлым, сгорбленным стариком.
Когда подошел он ко входу в подземелье, стоявший на страже казак уставил против него копье и остановил его; но лишь увидел у него на руке гетманский перстень, тотчас отворил ему дверь.
За тою дверью, несколько далее и глубже, еще была дверь, которую охранял также казак, вооруженный с головы до ног. В углублении стены слабо горел каганец. И этот пропустил Кирила Тура молча, лишь только он показал ему перстень.
Далее еще увидел Кирило Тур одну дверь, охраняемую также вооруженным казаком. Он взял у казака каганец и ключ от тюрьмы Сомковой и сказал:
— Ступай к своему товарищу. Я буду исповедовать невольника, так, может быть, услышишь что-нибудь такое, чего никому не надо слышать.
— Да я и сам рад, отвечал казак, убраться подальше. Знаю, на какую исповедь пришел ты.
— Ну, когда знаешь, так и хорошо. Смотри ж, не входи к нему до самого утра. После исповеди он уснет, будить его не надо!
— Уснет после твоей исповеди всяк! ворчал казак, затворяя за собою дверь.
А Кирило Тур между тем отворил дверь в темницу, и тотчас запер ее за собою. Поднявши кверху каганец, он увидел Сомка, прикованного толстою цепью к стене. Узник сидел на соломе, в старой сермяге, без пояса и без сапогов. Все у него ограбили, когда взяли под стражу. Из прежней одежды осталась на нем только шитая серебром, золотом и голубым шелком сорочка. Шила эту сорочку бедняжка Леся, украсила вдоль по воротнику, по разрезу пазухи и по краям широких рукавов цветами и разводами, а её мать подарила эту сорочку нареченному зятю на память гостеванья его в Хмарище. И странно, и грустно было бы каждому глядеть, как она блистала своею белизною и шитьем из-под грязной невольничьей одежды несчастного гетмана.
Кирило Тур поставил на окне каганец и тихо подошел к унылому узнику. Сомко смотрел на него молча, без любопытства и страха. Запорожец вынул из-за голенища нож и показал Сомку с выразительным движением.
Сомко поднял глаза к небу, перекрестился и сказал спокойно:
— Что ж? Делай, для чего тебя послано.
Но причудливый запорожец спросил его сиплым и гнусивым голосом:
— Неужто тебе совсем не страшно умирать?
— Может быть, мне и было бы страшно, когда бы не было написано: Не убойтеся от убивающих тело и потом не могущих лишше что сотворити...
— Да это ты рассуждаешь так, пока не почуял в теле железа; а дай-ко я резну тебя для пробы по грудине.
— Адское исчадие! вскрикнул тогда Сомко, неужели тебе мало одной крови? Ты хочешь еще натешиться моими муками! По твоему голосу вижу, что ты живешь только в подземельях и привык питаться человеческою кровью! Так впивайся ж в мое тело, гад отвратительный! Буду молчать, пока и замучишь меня, не услышишь ты, презренный, как стонет гетман Сомко!
— Добре! Ей Богу, добре! сказал тогда Кирило Тур своим естественным голосом, пряча нож за голенище. Ей Богу, мне кажется, что я смычёк, а все люди скрипки: как я поведу, так они и играют! Не жизнь я на свете коротаю, а свадьбу играю.
— Что это? говорит Сомко. Неужели я от тоски начинаю бредить? В самом ли деле ты Кирило Тур, спрашиваю именем Божиим, или это мне мара представляется?
Запорожец весело рассмеялся.
— Еще и спрашивает! сказал он, отбрасывая на спину кобеняк. А какая ж бестия, кроме Кирила Тура, пробралась бы к тебе чрез три сторожи? На всей гетманщине только я один умею очаровать всякого так, что и сам не знает, что делает.
— Что ж ты мне скажешь?
— А вот что я тебе скажу. Давай-ко меняться на платье да вылезай из этой гадкой конуры. Тут только гадам жить, а не человеку. Там за городом под Бугаевым дубом ждет тебя такой же дурень, как и я, — паволочский поп с сыном. Хотел было ехать уже обратно в Паволочь; думал, что ты попался навеки чёрту в зубы; ехал спасать Паволочан. Тетеря, видишь ли, пронюхал, что тут Шрам против него затевает, да и прижал Паволочан — тесно и жарко стало беднягам. Вот почему Шрам бросился было, как опаренный, на ту сторону; но я послал казака наперерез дороги. «Постой, говорю, попе! Еще, может быть, мы воротим сокола из клетки». А тут и в народе распустили мои братчики молву, что Сомко уже на воле, так сбирайтесь в купы да ждите знака. Ты, может быть, и не знаешь, что Иванца уже все раскусили. Теперь только гукни по Украине, так тысяча тысячу будет толкать да бежать к твоей хоругви. Поднимутся и те, что не были на черной раде. На раду ведь сползлась только вся дрянь из гетманщины, а добрые люди Иванцовым сорванцам не поверили. Потому-то Иванец и сделал на раде все, что хотел. А с Запорожья тожь только одни разбойники вышли в Украину, а что осталось в Сечи доброго, все за тебя теперь станет. Только явись да вскрикни: «Кто за Сомка?..» Что ж ты слушаешь молча, как будто я тебе сказку сказываю?
— Потому слушаю молча, что из всего этого мало будет добра! Много разлил христианской крови Выговский за это жалкое гетманованье; много и Юрусь погубил народу, добиваясь власти над обеими сторонами Днепра; неужели же в Украине не уймется хоть на один год литься христианская кровь? Мало еще её лилось! Еще я начну земляков одного против другого ставить! Иванец теперь с казаками будет держаться крепко; чтоб его сбить, надобно потерять десятки тысяч народу; а для чего? для того только, чтоб не Бруховецкий, а Сомко гетманствовал!
— Нет же, когда хочешь знать! воскликнул с несвойственным ему увлечением Кирило Тур, — не для того только, чтоб ты гетманствовал, а чтоб правда взяла верх над неправдою!
— Возьмет она верх и без нас, брат Кирило. Может быть, Господь только для науки народу допустил торжествовать злодеям. Видно, нельзя иначе довести людей до ума, как горем да бедою!
— Так, значит, ты совсем отрекаешься от своего гетманского права?
— А что ж бы ты делал на моем месте? Были у меня и друзья, и приятели, были полки и пушки, да Бог не благословил мне гетманствовать; друзи мои и искреннии мои отдалече мене сташа и чуждахуся имене моего: так чего ж мне идти против воли Божией? Рука Его видимо на мне отяготела...
— Шрам не так об этом думает.
— Не так думал и я, пока смерть не заглянула мне в глаза; а теперь иначе смотрю я на Божий мир.