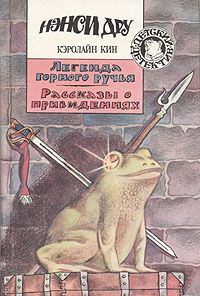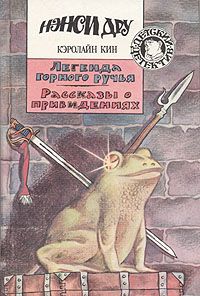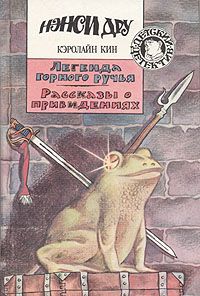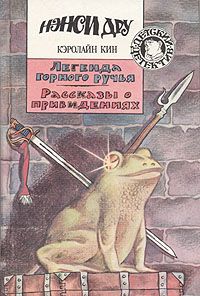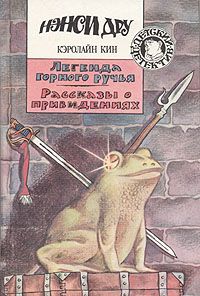Николай Зарубин - Надсада
А рядом с поленницей обреталась бесформенная куча щепок — та, то есть, часть отходов от расколотой чурки, до которой и вовсе никому не было дела, — эта часть народонаселения заведомо была обречена на погибель.
И если еще в городах люди куда-то спешили, что-то искали и, случалось, находили, то в деревнях, селах и лесных поселках жить становилось нечем. Да и незачем. И куда ни посмотри, всюду можно было наткнуться на глаза — тоскливые, подернутые тиной безверия, обращенные внутрь самого человека, который уже глубоко сомневался: а человек ли он и осталось ли у него какое-то мало-мальское право считаться таковым?
Эти глаза и видел художник Николай Белов, объезжая на Тумане окрестные деревни и села, спешиваясь, расставляя свои художнические приспособления и погружаясь в работу — тяжелую, почти мученическую, потому что душа его чувствительная, сердце его трепетное с трудом претерпевали картину всесветного человеческого отчаяния.
Возвращаясь к вечеру на выселки, Николай жаждал только одного — постельного забытья. И спал беспробудно, чтобы утром следующего дня снова куда-то двигаться и наново переживать пережитое накануне.
Так рождалась очередная серия портретов людей присаянской глубинки.
Когда таковых набралось до пяти полотен, приехал отец Данила Афанасьевич, долго стоял перед картинами сына, не поворачиваясь к Николаю, спросил:
— Ты, сынок, хоть понимать, че делашь? Ты что ж, хочешь вместе со всеми переболеть их болезнями и остаться здоровым? А я, а мать твоя, а жена, а дети твои, мы все — как же? Поберечь себя надо бы, не рвать душу там, где ничего изменить нельзя.
— Это, отец, в творчестве неизбежное. Ничего нельзя создать путного, если не принять в душу, в сердце, не проникнуть в самую суть умом. Так что не беспокойся — нашему брату художнику подобное не впервой.
— Ну, гляди-гляди, тока гляделки не прогляди. Себя вить потерять — раз плюнуть. Ежели чуешь силы в себе — работай, а то и в тайгу давай махнем. Там душой-то и оттаешь.
— Понимаешь, отец, на Руси, в России подобные государственные перевороты — не в новинку. И главные войны за право собственности, главный дележ пирога происходят в верхах. А чубы трещат — у холопов. Но вот беда: советская власть слишком долго и слишком упорно внушала простому люду, мол, вы — не рабы и не холопы.
Вы — хозяева всего, что есть в стране. Приподнимали крестьянина, превозносили рабочего, отмечая лучших всеми высшими государственными наградами. И люди поверили, что так будет всегда. Жили, трудились, ели, пили, рожали детишек. Если приходили в магазин, то твердо знали, что булка хлеба стоит двадцать копеек, а кило сахара — девяносто. И так будет всегда. И вдруг все обвалилось, обрушилось, смешалось, попуталось. И как тут не потеряться простому человеку? Как не дрогнуть, не пошатнуться? Некоторое время большинство людей верили, что вот потерпим еще чуть-чуть и все наладится. Ну вот как после войны, когда год от года люди начинали жить все лучше и лучше. Однако здесь даже не год от года — день ото дня жить становится все хуже и хуже, хотя нет никакой войны, во всяком случае нет налицо явного врага, с которым можно было бы потягаться силою. И мало-помалу люди начали понимать, что в единоборство с собственным народом вступило само государство. Но ведь простому человеку и невдомек, что с ним в единоборство вступило не само государство, а те люди, которые захватили в государстве власть. На всех уровнях вертикали власти, и даже гораздо более на нижних ступенях, нежели на самом верху. Я вот и думаю: а как мне, художнику, передать своими средствами происходящие в стране перемены? Как приподнять человека в его душевном упадке, дабы он приободрился и смог пережить эту очередную напасть, каковая, может быть, выпала России во испытание и во спасение и каковая, может быть, ниспослана России Господом? Обо всем этом можно было бы не говорить, если бы не постоянно тревожащие меня, если бы не рвущие мою душу глаза каждого отдельно взятого человека, в которых со всей возможной полнотой отразились происходящие в стране «преобразования». Глаза человека, жадно ищущего хотя бы малые ростки благих перемен и в то же время ни на йоту не верящего в таковые, однако все понимающего и за все на свете готового простить. Такие глаза, я думаю, и есть общий портрет глубинки, к которой с полным правом относятся и поселок Ануфриево, и ближние к нему деревни, и те деревни и села, что в центральной части России, и те, что на Дальнем Востоке или на Крайнем Севере. И еще я понимаю, что для меня, как для художника, время послабления кончилось и приспело время настоящей работы.
— И я тебе говорю: работай. Ты, знаю, на правильном пути — я тобой горжусь. Тока хочу упредить: не надсадись. Нельзя стараться поднять тяжесть, ежели она сверх твоих сил. Об этом и тревожусь.
— А можно ли, скажи мне, без надсады поднять такую тяжесть, какая заведомо кажется неподъемной? Только поднатужившись, и можно что-то сотворить.
— Ну и добро.
— Добро-добро, Миколка, — вставил свое бывший здесь же старик Евсеевич. — Перемогем, не впервой. Я вот, када Раису задрал ведмедюка, никак не мог очухаться. Помру, думал, с горя. Заверну лыжи. Ан нет! Выкарабкался!
И, будто немного подумав о чем-то своем, закончил:
— От… и — до…
— Ты со своей Раисой и тут влез, — в раздражении дернул плечами Данила. — Не о том мы с сыном толкуем. Себя надо поберечь. А всех не оплачешь — слез не хватит…
— Мушшина и не должон плакать. Я вот, када Раису хоронили, тож не плакал. Слезьми горю не поможешь. А кто, скажи, будет иськусство двигать? Кто творить жись, переводя ея в краски бытия?
— Ну и нахватался тут старый у тебя, — уже улыбался Данила. — Не переговоришь Евсеича.
— Иськусство, творить… — передразнил. — Ишь расперло…
Замешкался в поисках нужного слова:
— Подсобник…
— Во-во, пособник. Пособляю, то ись и способствую…
— Ну и способствуй.
— Да я ж… Да мы ж… Да че ж… — запрыгал на месте, зачастил, будто зачирикал, старик.
«И впрямь Воробей», — подумали об одном и том же отец и сын.
Переглянулись, заговорили о другом.
А новости были такие: Ануфриевский леспромхоз обанкротился окончательно, и назначен был наехавший неизвестно откуда внешний управляющий, по поводу которого тут же начало зубоскалить местное население, мол, «вот, управляющего теперь знаем, а кто наш барин?» Раньше, мол, «при советской власти тож были управляющие, но мы знали, что их ставило государство, а теперь кто?..»
Недоумевал народ и по поводу объявленного банкротства, под маркой которого начались повальные увольнения здоровых работоспособных мужиков.