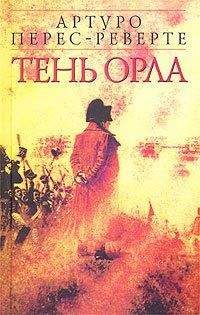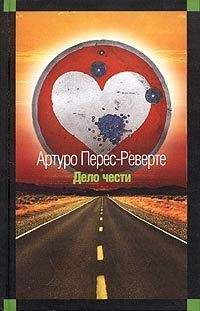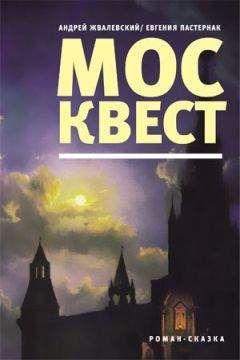Артуро Перес-Реверте - Мост Убийц
IX. Заутреня
В доме донны Ливии Тальяпьеры рождественского ужина не было. Куртизанка стояла у окна в большой гостиной и смотрела в ночь. Комната освещалась только пламенем, потрескивавшим в устье облицованной мрамором печи.
— Пора, — сказал Диего Алатристе.
Донна Ливия не обернулась. На ней был длинный домашний халат, на плечах — шерстяная шаль, а волосы убраны под кружевной чепец. Алатристе, мягко ступая по ковру, приблизился к ней. Сюда, на второй этаж, он пришел попрощаться. Свернутый плащ лежал у него на руке, а в другой он держал шляпу.
— Не опасно ли оставаться здесь?
Женщина, будто не слыша, все так же неподвижно стояла у окна. В красноватом мерцающем свете углей кожа ее казалась, как и прежде, белой и гладко-упругой.
— Может, обойдется. Но, может быть, и нет, — настойчиво сказал капитан.
Ему не хотелось представлять ее в руках палачей. Но если в самом деле «не сойдет», то кто-нибудь непременно рано или поздно развяжет язык. И донне Ливии советовали покинуть Венецию в ближайшие дни, не дожидаясь развития событий, но она пропустила предложение мимо ушей. Обо мне есть кому позаботиться, сказала она. Есть у кого искать защиты. И есть средства и способы уладить дело.
Алатристе в очередной раз восхитился точеным профилем венецианки и округлыми очертаниями статной фигуры под скроенным на манер туники шелком. Капитан вспомнил об этом прекрасном теле, знакомом ему до самых сокровенных глубин, о теле сладостном и упоительном, но теперь недоступном, и затосковал. От этого тепла предстояло уйти в холодную ночную тьму, в ледяную неумолимую даль, и потому капитан медлил, хотя давно уже пора было выходить.
— Проститься хотел, — сказал он.
Он никак не мог избавиться от смущения. И потому не переставал испытывать неловкость. Крупица изящества придает вкус всему, говорили благородные кавалеры. Но он-то не был ни тем, ни другим, а изяществом природа наделила его скудней, чем следовало бы. Непринужденная легкость обращения не свойственна была ни характеру его, ни ремеслу. И жизнь обретению этой легкости не способствовала. Задумавшись об этом, он не сразу заметил, что женщина, повернувшись вполоборота, смотрит на него.
— Джеляю удаччи, — сказала она безо всякого выражения.
— Все было очень… — Алатристе замялся, подыскивая подходящие слова. — То есть я вам признателен… Спасибо.
— За что?
Большие карие глаза миндалевидной формы были неотрывно устремлены на него. И от стеснения Диего Алатристе нахмурился. Светлая печаль, томившая его, улетучилась бесследно. Внезапно ему захотелось оказаться подальше отсюда и заняться тем, к чему был призван. Тем, что делал всю жизнь. Для таких, как он, отсутствие трезвомыслия — самоубийственно.
— Да, вы правы.
Тальяпьера протянула руку. Алатристе на мгновение взял ее своей, наклонился и запечатлел краткий поцелуй — лишь чуть коснулся руки усами. При этом движении рукоять его «бискайца» звякнула о гарду шпаги. Донна Ливия продолжала смотреть на него, пока он выпрямлялся, поворачивался спиной и, набрасывая на ходу плащ, шел к дверям. Но нежданная мысль задержала его на самом пороге.
— Меня зовут не Педро Тобар, — сказал он, еще не успев надеть шляпу.
— Я знаю, — ответила она.
— А Диего.
Куртизанка уже вернулась к окну. Издали, в красноватом мерцании раскаленных углей в устье печи Алатристе почудилась улыбка у нее на губах.
— Грациэ, дон Диего.
— Не за что, сеньора.
Заждавшийся Гуальтерио Малатеста встретил его нетерпеливо-злобным ворчанием. Диего Алатристе прошел мимо и сел, пристроив шпагу между колен, в ожидавшую у берега гондолу с темным силуэтом гребца на корме. Плотнее закутался в плащ, покуда итальянец садился рядом, а гондольер отталкивался веслом от стенки. Гондола мягко качнулась на спокойной воде, а потом медленно заскользила в сторону Гран-Канале мимо каменных ступеней и заснеженных причалов. Подобно медленным летучим мышам, по широкой, черной ленте воды двигались отражения — стояночные огни других судов, освещенные окна, ореолы факелов на мосту через Риальто. Миновав его, гондола пошла к противоположному берегу, а там свернула в другой канал — узкий и темный, протекавший мимо церкви Сан-Лукас. Весло размеренно и бесшумно погружалось в тихую воду. Полнейшее и зловещее безмолвие нарушалось лишь изредка, когда на поворотах гондольер упирался в стенку ногой, помогая своему маневру, или когда весло скребло по камню или кирпичу. Алатристе и Малатеста молчали. Капитан время от времени отводил глаза от воды и искоса посматривал на спутника, и ему, будто парившему в этом умиротворяюще спокойном мраке между водой, ночью и Судьбой, казалось, что он плывет по реке мертвых и невидимым веслом на корме ворочает Харон, а у сидящего рядом так же мало надежд на возвращение, как и у него самого.
Деревянный борт мягко стукнул о камень причала. Гондола замерла, и тишина сделалась всеобъемлющей.
— Отсюда двинемся пешком, — промолвил Малатеста, вставая. — Мост Убийц — в тридцати шагах.
Я стоял у дверей таверны, прислонясь к стене, и вскоре заметил в мутном свете факела, кое-как разгонявшем тьму, две фигуры в плащах и шляпах. По указу магистрата и из уважения к чувствам верующих здешние потаскухи не вышли в рождественскую ночь ловить клиентов, и узкая улочка на краткое время лишилась грешной плоти. Малатеста остался на мосту, капитан двинулся вперед и вскоре оказался рядом со мной. Остановился на мгновение, не глядя на меня, и отдернул тяжелую засаленную портьеру. Холодно оглядел таверну.
— Все в сборе? — спросил он негромко и тускло.
— Почти.
Я шагнул через порог следом за ним. Внутри царило неимоверное оживление, ибо праздновать рождение Христа собралась вся округа. Все столы и лавки были заняты, и люди гнали во весь опор, опорожняя стакан за стаканом, запивая бараньи потроха и звенья рыбы в масле — такой черноты, что им впору не кушанья было заправлять, а лампы. Было дымно, чадно, накурено, пахло волглой одеждой и сырыми опилками. Собралось душ двести — слуги, уличные музыканты, моряки, чужестранцы, разного рода проходимцы и темные личности, гнездящиеся обычно на каналах, у лагуны и на припортовых улочках. Не обошлось, разумеется, и без проституток, которые из-за профоса и его стражников, не пустивших их сегодня слоняться, вывалив прелести напоказ, по улицам, заменили свои обычные абордажные крючья полувздетыми юбками и вольготно расшнурованными корсажами и занялись корсарским промыслом здесь, вертясь в табачном дыму и смолистом смраде факелов, коптивших потолочные балки и огромные кувшины с вином. Ничего удивительного, что в подобной обстановке и в оглушительном гвалте и гомоне на нашу команду, тем паче что она разбилась на небольшие группы, никто не обратил особого внимания и, более того, вообще ее не заметил. Роке Паредес и те четверо испанцев, с которыми ему предстояло пустить красного петуха в еврейский квартал, сидели вместе, делая вид, что перекидываются в картишки, причем сидели так, чтобы держать под наблюдением вход, и их грубые лица ничем не выделялись бы среди прочей публики, кроме как солдатскими усами и подстриженными бородами, а равно и тем, что носители их остались в плащах, под которыми скрывали кожаные колеты и весь свой смертоубийственный скарб — хотя от жары в таверне задохнулись бы сам Вельзевул и мать его.