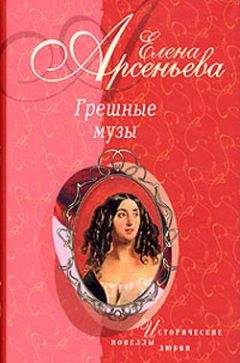Елена Арсеньева - Русские куртизанки
По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Да и свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их «подобно ядрам из баллисты», как сказано в «Огненном ангеле» при описании подобной сцены.
И вот, стало быть, приехала она в Петербург, гонимая из Москвы неладами с Брюсовым и романом с очередным «прохожим» — молодым модным петербургским беллетристом Сергеем Ауслендером. Нина ведь ни с кем не могла предаваться любви — даже такой вот минутной, угарной, — только с людьми искусства!
Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву — она не сразу поехала. Очень наслаждалась его ревностью и при этом уверяла, что с Ауслендером у нее ничего нет: «Не подозревай меня в дурном с этим мальчиком… когда я сказала, что люблю тебя и буду любить всегда, он побледнел, а глаза у него стали большие, в слезах. Он больше „существо“, чем Б.Н. Он ведь не захочет быть бледным пажом нашей любви…»
Брюсов уже тоже крутил другой роман, правда, не для того, чтобы пробудить ревность у Нины, а совершенно искренне, от души. Однако и Нину не забывал, порою являлся к ней ее помучить:
Слева вправо, справа влево,
Словно лезвие косы,
В звуках нежного напева
Чередой идут часы.
Ты вдвоем с подругой русой,
С темнокудрой ты вдвоем,
Словно четки, словно бусы,
Тень мелькает день за днем.
То к одной приникну ближе,
То опять к другой взнесусь.
Миг помедли, подожди же,
Вновь, упавши, вознесусь.
Справа влево, слева вправо,
Словно маятник часов,
И поэт твердит лукаво
Звуки нежные стихов.
То с подругой белокурой,
С темноликой то сестрой,
И поем мы стих немудрый,
Стих знакомый и простой.
Но вернемся к Нине, в Петербург. В основном вечера она проводила не с Ауслендером, а с Ходасевичем — вечера, «признаться, неврастенические», как он вспоминал, — жалуясь друг другу на жизнь.
По случайности в Петербурге в это же самое время оказался и Андрей Белый, который приехал к Любови Дмитриевне Менделеевой — чтобы вновь быть отвергнутым ею.
Встретились он и Ходасевич случайно. Возле Публичной библиотеки пристала ко Владиславу Фелициановичу уличная женщина. Чтобы убить время, он предложил угостить ее ужином. Зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:
— Меня все зовут бедная Нина. Так зовите и вы.
Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а Ходасевич подумывал, как бы от нее отделаться. Потом они с Белым за бутылкою коньяку забыли о своей собеседнице. Разговорились о Москве, и не сразу вспомнили, что у них было условлено пообедать в ресторане «Вена» с Ниной Петровской.
Побежали туда. Нина уже ждала, но даже встреча с Белым ее не обрадовала. Она была мрачной и молчаливой, таким же вышел и обед.
Наконец Ходасевич сказал:
— Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.
Она подняла голову и ответила:
— Меня надо звать бедная Нина.
Ходасевич потом вспоминал: «Мы с Белым переглянулись — о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили».
Совпадение объяснялось просто: ни кем иным Нина себя сейчас не чувствовала, как постаревшим на столетие подобием «бедной Лизы», точно так же, как та, брошенной своим возлюбленным.
Брюсов не пытался уверить ее в том, что «все будет хорошо». Он постепенно готовил ее к забвению «перегоревшей» страсти. «Я чувствую, — писал он ей, — как в моей душе моя любовь к тебе, из дикого пламени, мечущегося под ветром, то взлетающего яростным языком, то почти угасающего в золе, стала ровным и ясным светом, который не угасит никакой вихрь, ибо он не подвластен никаким стихиям, никаким случайностям».
Будем друзьями, дорогая, расстанемся, как цивилизованные люди…
Для Нины это было, конечно, невозможно.
Ты приходил ко мне, холодный,
С жемчужным инеем в усах,
В вечерний час, со смертью сходный,
Твой лоб, твои глаза и щеки
Я грела в маленьких руках.
О, как мы были одиноки,
Вдвоем, и в мире, и в мечтах!
Ты приходил ко мне весенний,
Овеян запахом листвы,
И в час, когда прозрачны тени,
Я целовала абрис милый
Твоей склоненной головы.
А древняя луна скользила
По кругу древней синевы.
Ты приходил ко мне, усталый
От зноя, в пыльный летний день.
Твой рот, страдальческий и алый,
Я целовала; берегла я
Твою тоскующую лень,
Пока, все думы погашая,
Не проникала в окна тень.
Настала осень: дождь протяжный
Шумит в ленивой тишине,
И ты, весь радостный, весь влажный,
Осенних астр цветную связку
Несешь кому-то, но не мне…
И вечер грустно шепчет сказку
О невозвратном, о весне…
Теперь ей оставалось только перечитывать старые стихи, старые письма и плакать над ними. Но чаще всего она перечитывала «Огненного ангела». Впрочем, это и не нужно было ей — она и так знала его «с любого места наизусть». Уехав ненадолго в Италию подлечить вконец истрепавшиеся нервы, причем прихватив с собой в компанию Сергея Ауслендера, очень сильно в Нину — а может, в Ренату, он и сам толком не знал — влюбленного, Нина писала Брюсову:
«Всякие выходки мальчика довели меня до того, что я хотела не ехать с ним. Но когда я сказала: „не поеду“, — он понял серьезность угрозы и, немножко зная способность Ренаты к поступкам безумным, смирился и изменился». И спустя несколько дней: «Я хочу умереть, чтобы смерть Ренаты списал ты с меня, чтобы быть моделью для последней прекрасной главы…» Она, кажется, даже забывала, что «уже написан Вертер», роман закончен и живет теперь самостоятельной жизнью. Но она все еще продолжала ощущать себя частью его. И даже поехала из Парижа, где тогда жила (одна знакомая писала Брюсову в это время из Парижа: «Представьте, какая досада: была у меня Нина Петровская и преглупо не застала дома… А мне почему-то ужасно хотелось видеть губы, которые вы целовали»), в Кельн, чтобы вновь ощутить себя героиней «Огненного ангела». И Брюсову полетело письмо об этом:
«Чувствовала себя одной во всем мире — забытой, покинутой Ренатой. Я лежала на полу собора. Как та Рената, которую ты создал, а потом забыл и разлюбил. На плитах Кельнского собора я пережила всю нашу жизнь. Минута за минутой… А в темных сводах дрожали волны органа, как настоящая погребальная песнь над Ренатой…»