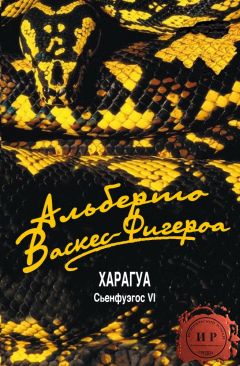Альберто Васкес-Фигероа - Уголек
Настала зима, а в холмистой земле мотилонов зима была не только синонимом печали, но и ливней, длящихся многие месяцы. Дожди порабощали пейзаж, животных и людей, становились фоном и участником всех событий.
Где-то далеко яростное солнце нагревало бескрайнюю поверхность моря карибов, и в результате густые тучи испарений медленно плыли, гонимые легким северо-восточным ветром, и застревали в горных расселинах, где неспешно, но безостановочно изливали влагу, час за часом, днем и ночью, с такой одержимостью, что недели, казалось, превращались в месяцы, а месяцы — в годы.
Никто не мог точно предсказать, сколько времени продлится унылая зима, потому что без сияющей на небе луны ни один туземец не способен был подсчитать, сколько продлится влажный сезон, за которым немедленно следовала адская жара.
Сгрудившиеся в жалких лачугах из ветвей и листьев, «люди пепла» в это время года исчезали из вида, поскольку вода просачивалась через малейшие щели, и лишь дремали в грубых гамаках над раскисшей поверхностью, куда при каждом шаге ноги проваливались по самые лодыжки.
Все вокруг провоняло плесенью, дохлым зверьем и человеческими испражнениями, не слышалось никаких звуков, кроме дождя, никаких движений, кроме тех, что производила вода. Даже обезьян и белок как будто заразило всеобщее запустение, а птицы с первыми тучами спешили укрыться в гнездах.
Канарец Сьенфуэгос, такой же вялый и тихий, как весь окружающий мир, забился в уголок — это он-то, дитя солнца, жары и открытого горизонта — и чувствовал себя так, будто превратился в живого мертвеца без воли и способности как-то реагировать, его так угнетала удушливая атмосфера, что все жизненные силы будто покинули его, оставив на грани, разделяющей жизнь и смерть.
Нескончаемые часы он скорее дремал, чем спал, или осматривал деревья и кусты, скрывающие горизонт. Разум блуждал, пытаясь найти хоть немного света и ярких красок, хотя теперь уже не верилось, что они когда-то существовали.
Его «хозяйка» Акаригуа, как носовая фигура старого корабля, покрытая коркой соли, сделавшей ее нечувствительной к влаге, крепко сидела на верхушке своего «дерева», похожая на странное изваяние, причем настолько неподвижно, что канарцу не раз казалось, что она уже бесшумно испустила последний вздох.
Но она была жива и выбрала местом своего обитания верхушку «дерева». В этом было нечто символическое — ведь лиана, удушающая дерево, тоже является подобного рода паразитом.
Лиана под названием клузия поначалу выглядит как тонкая веревка, но год за годом поднимается наверх, обвивая толстый ствол, почти всегда она живет не гевеях высотой более пятидесяти метров. А потом она начинает утолщаться и душит опору, пока окончательно не погубит. Затем под воздействием дождей и влаги дерево перегнивает, и остается нечто вроде высокого дымохода, который рушится под собственной тяжестью.
Акаригуа, «та, что всё видит, всё слышит и всё может», казалось, прекрасно себя чувствовала, многие часы глядя сверху, из-под хлипкого укрытия, защищающего ее от дождя, и жевала свою харепу — единственный источник, поддерживающий в ней жизнь. Она тут же объяснила своему «рабу», как находить харепу среди тысяч похожих друг на друга листьев.
Канарцу пришлось сократить и без того скудную диету до кореньев, лягушек и очень редко — обезьян, которых удавалось застать врасплох, и он вынужден был признать, что харепа не только оставляет приятное и радостное чувство забвения, но и утоляет чувство голода, усталость и снимает невыносимую тоску, в которую он уже давно погрузился.
Оказалось, что и два десятка убогих мотилонов, живущих по соседству, тоже выживали в долгий сезон дождей благодаря мелким зеленым листочкам, и потому редко выбирались на охоту, лишь по случаю ловили зазевавшегося пекари, жарили его, пока не превратится в угольки, и пожирали вместе со шкурой и внутренностями.
Сьенфуэгос наблюдал за ними, словно за существами с другой планеты.
У карибов, кровожадных пожирателей человеческой плоти, имелись хотя бы грубые хижины и хоть какая-то племенная структура, а «люди пепла» были воистину примитивным народом, по уровню развития стоящим на полпути между человеком и обезьяной.
Они знали огонь и умели говорить, но были каннибалами и ловко пользовались примитивным оружием, иногда прямо-таки с дьявольской сноровкой, но, похоже, не могли построить мало-мальски приличное жилье, несмотря на сложные климатический условия на их территории, и не проявляли никакого интереса к тому, чтобы перенять мелкие усовершенствования соседей — пемено и купригери.
Глядя на них, Сьенфуэгос пришел к выводу, что, должно быть, племя откуда-то сбежало и решило укрыться в этих недоступных горах, но до сих пор хранило кошмарные воспоминания об ужасном исходе и потому приобрело привычку не строить жилищ и превратилось в вечных скитальцев, готовых сняться с места при первом же признаке опасности.
Их мосты, черепа и запах смерти, наполняющий лес, видимо, были не столько символом могущества, сколько демонстрация слабости, а слава убийц — истерической реакцией в результате панического страха. Лучшим доказательством этой теории, пожалуй, было то, что они редко устраивали походы на другие племена, и лишь для того, чтобы схватить женщин и как можно быстрее удрать, не ввязываясь в драку.
Они были слабы и знали это, но канарец понимал, что нет ничего страшнее, чем агрессия трусов, живущих в постоянном страхе и всегда готовых воспользоваться моментом и отыграться на тех, кто слабее.
К счастью, омерзительная Акаригуа явно имела над ними власть, может, и не из-за колдовских способностей, а потому, что была их единственным связующим звеном с внешним миром, о котором они знали лишь то, что она пожелала рассказать.
Старая мумия свободно перемещалась по территориям разных племен, кланов и семей, иногда выполняя роль почтальона, и, возможно, истинной причиной того, что Сьенфуэгосу сохранили жизнь, была необходимость в ее услугах, когда у нее уже отказывали ноги.
А тот, в свою очередь, не переставал задаваться вопросом, что такого ценного может быть в этой вонючей старухе, вечно капризной и деспотичной, хотя она уже много раз удивляла его в самых тяжелых обстоятельствах.
Большую часть дня он проводил в поисках листьев харепы или чего-нибудь более существенного, чтобы набить рот, а с наступлением вечера сворачивался калачиком, как бродячий пес, под пологом ветвей вековой сейбы и замирал там, глядя как вода напитывает почву, превращая ее в вязкую слякоть, скользящую вниз по склону мутными водопадами.
Прошло, вероятно, месяца два, крошечные ручейки превратились в грязевые потоки, врывающиеся в чащу, но не как огибающие препятствия речушки, а сплошным потоком, который с корнем выдирал наиболее хлипкие кусты и тащил их, перемалывая, за собой в долину.