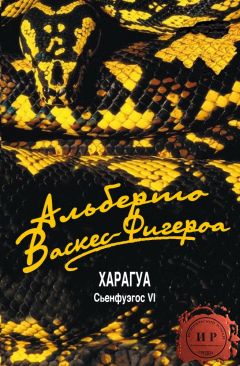Альберто Васкес-Фигероа - Уголек
— Но если я тебя сожгу, они тоже меня убьют, едва увидят, что ты сгорела... — возразил Сьенфуэгос. — К тому же тебе ведь будет очень больно гореть на костре из сырого дерева?
Она долго изучала свои ногти.
— Когда уже не будет сил терпеть, Акаригуа вонзит их себе в шею, — спокойно ответила она. — Она знает, какой быстрой и безболезненной бывает смерть от этого яда.
— Проклятая старуха! — выругался канарец. — А как же я?
— А ты сможешь уйти, — так же спокойно ответила она. — Акаригуа скажет своим детям и внукам, что ее душа найдет покой лишь в том случае, если они позволят тебе свободно уйти. Договорились?
— Ты так боишься Тамекана?
Беззубая ведьма подняла палец, указывая им чуть левее, и склонила голову.
— Послушай! — велела она. — Прислушайся, как он ревет, пожирая все на своем пути... Ты можешь представить, что чувствует человек, оказавшись в его ненасытной утробе, зная, что никогда больше не вернется назад, не увидит деревьев и неба? Так вот, если ты сожжешь меня, Акаригуа воспарит к небу вместе с кондорами; но если он меня схватит, Акаригуа навсегда останется в непроглядной темноте его чрева, страдая по солнцу и небу, — в голосе ее прозвучала мольба. — Прошу тебя!
— Мне нужно подумать.
— У нас нет времени! — воскликнула она, сжимая в кулаке комок грязи, похожий на растекающееся масло. — У нас нет времени, — повторила она. — Земля больше не земля, вода — не вода. Все вокруг — Тамекан!
Сьенфуэгос медлил с терпеливостью, которой научился у самих же туземцев, для них время будто не имело значения, и решил, что и впрямь дело кончится оползнем, и всякий, кто не покинет гору, погибнет вместе с ней.
Может, испуганным мотилонам, которых ненавидели и презирали соседи, больше некуда было деться, и они предпочитали остаться здесь с риском потонуть под тоннами грязи, но Сьенфуэгос, канарский пастух, заброшенный в эти места по прихоти судьбы, не имел причин разделить ту же участь, ведь куда бы он ни направился, везде будет лучше.
— Ну ладно! — в конце концов сдался он, устало вставая. — Я устрою для тебя превосходный погребальный костер, но сначала поговори с ними.
Понадобилось почти два дня, чтобы набрать достаточно дров и веток аколе и других растений, кое-как высушить их над крохотным костром и водрузить наверх «погребального дерева» старуху. В конце концов Сьенфуэгос так обложил ее ветками, что старая ведьма почти не могла пошевелиться.
Однако канарец не мог просто так смотреть на смерть человека, хоть бы и неразумного, как примитивный абориген, и он в последний раз встал перед старухой и попытался убедить ее выбрать менее болезненную форму покинуть этот мир.
— Сначала убей себя, и тогда я тебя сожгу, — уговаривал ее он. — Иначе это убийство навсегда останется на моей совести.
Но старуха, похоже, даже не знала слова совесть, а сейчас ей тем более не было дела до того, что это такое; единственное, чего она хотела — покинуть этот мир в уверенности, что огонь и дым полностью скроют ее тело.
— Сделай это — и уходи, — ответила она. — Мне будет очень больно, но это только миг, — она посмотрела на свои ногти и вонзила их в ладони. — Должно быть, кураре слишком старое и уже не действует. Но это неважно: Акаригуа должна платить по счетам...
Она замолчала и долго смотрела на Сьенфуэгоса, словно пыталась заставить его понять, что его путь в этом мире тоже заканчивается. Несчастный канарец несколько мгновений не мог сообразить, чего же она хочет, но в конце концов вытащил ветку из костра и поднес ее к куче хвороста.
Церемония была одновременно жуткой и комичной, потому что из-за окружающей влажности и непросохших дров, казалось, не существует такой силы, которая могла бы разжечь здесь огонь, и канарца чуть удар не хватил, пока он пыхтел, пытаясь раздуть пламя.
Акаригуа глядела на него с непроницаемостью каменного идола и настолько притихла, что, если бы не блеск ее глаз, Сьенфуэгос решил бы, что она уже умерла.
Спустя полчаса черный дым полностью окутал ее тело, и языки пламени робко принялись лизать дряблую морщинистую кожу бедер, чтобы затем подняться по тощей спине. Когда же наконец вспыхнул жалкий пучок редких волос, старуха закрыла глаза и застыла, по-прежнему со сложенными на животе руками.
Пораженный Сьенфуэгос бросил на нее последний взгляд, полный ужаса и жалости, развернулся и стал спускаться с горы, спотыкаясь, чертыхаясь и поскальзываясь, грязь покрывала его с головы до пят. Он устал, был голоден, и жизнь настолько ему опостылела, что он даже не стал задаваться вопросом, куда бредет и зачем.
Он снова остался один, и не было на свете человека более одинокого.
19
Палящее солнце выжигало улицы только что появившегося на свет города Санто-Доминго, в эти кошмарные часы сиесты люди и звери искали убежище в тени жилищ или под цветущими огненными деревьями, раскрашивающими все вокруг в желтый и красный.
Неподалеку от широкой излучины реки, несущей свои бурные зеленоватые воды навстречу кристальной прозрачности моря, строилась церковь, которая со временем превратится в первый кафедральный собор Нового Света, и кругом были разбросаны огромные каменные блоки для ее стен, как и другие рядом — для возведения особняков, крепостей и монастырей. Все это показывало, что захватчики приняли твердое решение обосноваться на этом берегу океана.
Теперь никто уже не мог сдержать порывы «одетых людей» к созиданию и разрушению, лишь безумная и влажная жара и буйные джунгли вокруг намекали, что новый город строится не в Европе, настолько он походил на те, что воздвигались там в последние столетия.
Массивные фортификационные сооружения, защищающие вход в гавань от вражеских кораблей, дворец губернатора, церковь, особняки знати и глинобитные лачуги простонародья — всё это построили, не принимая в расчет особенности нового места обитания. Лишь почти столетие спустя вновь прибывшие наконец-то поняли, что нужно придумать новую архитектуру, более подходящую климату колоний.
Прошло много времени, прежде чем спешка уступила место логике, потому что вице-король хотел поскорей утвердить свою власть, а заодно произвести впечатление на туземцев и показать им всю мощь европейцев. И то, и другое он делал за счет строительства массивных стен, внутри которых человек легко становился жертвой влажной жары.
Настал август, и в эти дни город превращался в огромную баню, и в те часы, когда стоящее прямо над головой солнце могло убить любое живое существо, Ингрид Грасс как никогда прежде охватывала тоска по родине, она вспоминала дни, когда прогуливалась с отцом под снегом.