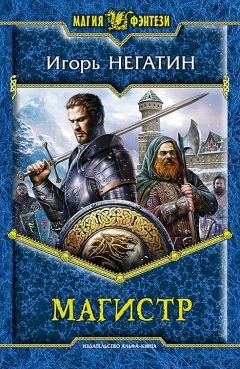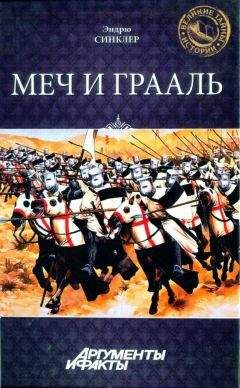Магистр ордена Святого Грааля - Дени Эжен
— Во всяком случае, — сказал слепец, — я не хотел дарить тебе благо пасть от руки единоверцев. Пускай бы эти… — он усмехнулся, — как ты их называешь, благородные… сарацины пролили твою недостойную кровь, это было бы тебе наградой за предательство единственно верной Римской церкви. И я сожалею, что мой замысел не осуществился. Что ж, ты разделишь участь их всех.
— Стало быть, и деспозин Штраубе падет от твоей руки!
— О нет, — усмехнулся отец Иероним, — он погибнет от водной стихии, направляемой десницей Божией. Моя рука останется неприкосновенной к его крови. Я даже оружия брать с собой не стал.
— Ну да! Только глыба в подъезде, только яд в дровах, только труба с водой! Ты же, по собственному разумению, при сем невинен, как агнец Божий…
Отец Иероним на этот раз промолчал, было лишь слышно, как он снова усмехается.
Бурмасов прошептал на ухо барону:
— Однако сам он собирается выйти — значит, выход где-то здесь есть.
Вместо фон Штраубе ему ответил отец Иероним:
— Можете не шептаться, говорить в полный голос: уши слепца слышат даже вовсе неслышимое. Да, выход, конечно, есть, но в темноте его способен отыскать лишь тот, кто привык к вечной тьме. Стоя на возвышении, я дождусь вашей кончины и затем покину этот подвал, ибо у моего ордена еще много забот по сбережению великой тайны.
— Ваш орден будет проклят! — воскликнул граф. — Ибо жизнь деспозина, что бы вы там ни придумали себе о руце Божией, останется на вашей совести!
— Да, одним деспозином придется пожертвовать, — отозвался из темноты отец Иероним. — Но есть и другие ветви деспозинов — во Франции, в Шотландии; во имя них сия жертва. Твой орден, комтур, прогнил, как трухлявая колода, зато мой не допустит, чтобы кровь святого Грааля вытекла за пределы преданных истинной церкви стран… Однако же, — продолжил он, — утолите мое любопытство, Штраубе: давно ли ты догадался, что это я?
— Весьма давно, — ответил барон. — Знал это почти наверняка. Удивляло только то, что, по моим соображениям, у вас не могло быть подручных: вы ни с кем не стали бы делиться тайнами орденских ловушек. И лишь теперь, когда наконец узнал, что основали собственный орден, все окончательно сошлось.
— Но чем я выдал себя? Просто любопытно, хотя… какое это уже может иметь значение?
— Стилетом, — сказал фон Штраубе. — Но прежде ответьте, зачем вы хотели выставить меня как убийцу Мюллера? Смерти моей вы бы тем все равно не добились. Смертной казни в России давно уже нет, а за убийство какого-то лекаря дворянину даже каторга не угрожает.
— Да зачем же каторга? — отозвался отец Иероним. — Достаточно, чтобы тебя взяли под арест, там бы ты уже не был под защитой своих друзей, а подкупить стражников мои новые братья по ордену вполне бы смогли. Для такого дело я бы не пожалел своего единственного алмаза… Однако ты, кажется, что-то говорил про стилет…
— Да, со стилетом у вас получилась промашка, — ответил барон. — Стилет действительно был с моим именем и даже с тайными знаками, о которых во всем ордене знали только трое вы, комтур и я; их как раз и ставили во избежание подделки. И тем не менее то был другой стилет, ибо свой я однажды нечаянно зазубрил, а тот, что стал причиной смерти Мюллера, был без зазубрины. Значит, кто-то подделку все-таки произвел. И это могло быть сделано лишь по заказу того, кто был осведомлен об этих тайных знаках. Комтур же знал также и о зазубрине, однажды как-то даже пожурил меня за нее. Стало быть, оставались только вы…
— Какие пустяки иногда вторгаются… — с огорчением проговорил слепец. — Благо, эту тайну ты тоже совсем скоро унесешь вместе с собой.
Вода уже доходила до пояса.
— А вот ежели я его сейчас придушу? — простодушно сказал Двоехоров. — Все одно помирать, однако ж славное дело перед смертью содею.
Отец Иероним рассмеялся:
— Котенок возмечтал задушить льва!.. Ты в темноте слеп, я же слухом своим зряч. Да и силы у меня, даже безоружного, хватит на пятерых таких, как ты.
То было сущей правдой. Сколь ни был крепок отважный семеновский поручик, но, даже имей он при себе кинжал, совладать с такой скалой, как отец Иероним, ему бы никоим образом не удалось.
— Все равно ж, говорю, помирать, — спокойно ответил, однако, Христофор, — так чего бы Не попробовать? — И стало слышно, как с этими словами он, загребая воду, двинулся на голос слепца.
— Давай, — подбодрил его отец Иероним. — Не столь уж велик будет грех свернуть тебе упрямую шею… Смотри только не оступись…
— О, черт! — выругался Двоехоров, и впрямь, должно быть, оступившись.
И тут же раздался возглас отца Иеронима:
— Боже, да что это?!.
— Ремешок сыромятный, — вновь спокойно отозвался Христофор. — Тот, коим ваши людишки комтура скрутили. Я его все время держал в руках… А ноги вам связать — это один миг, я в детстве еще обучился коней одним хитрым узелком намертво треножить, не успевали и дернуться… Да не тужьтесь вы развязать, ваше… как вас там?.. Преподобие, должно быть. Кожа-то сыромятная; она как намокнет, в жизни ее никому не развязать. Только ножом резать, а ножа у вас, как изволили сказывать, и нет. Напрасно не прихватили. Что ж! Как у нас говорят, и на старуху бывает проруха. Не печалуйтесь уж так, не первая ваша проруха. Вон и со стилетом Карлушиным тоже опростоволосились.
— Желаете оказаться со мной вместе на том свете? — злобно проговорил слепец. — Умрем же вместе — я свое пожил на земле!
Теперь уже спокойствие Двоехорова было определенно издевательское.
— Да зачем же нам с вами вместе? — спросил он. — Вы-то, может, и вправду свое пожили, а нам еще время вроде не подошло. Вы чай уже в магистры себя самозванно произвели, это, верно, вроде генерала, а мне до генеральского чина еще ох сколько! И Елизавета Кирилловна меня ждет. Нет, ваше преподобие (или как уж там вас), помирать мы еще как-нибудь повременим.
— Вы все равно погибнете, — мрачно предвестия слепец, — ибо в темноте не найдете выхода.
— А зачем же нам в темноте? — как бы даже удивился Двоехоров. — В темноте пускай бесы промышляют, наподобие некоторых. А нам от света Божьего хорониться ни к чему. Вот свечку сейчас зажжем…
— Это чем, интересно, искрами из глаз? — тихо спросил его Бурмасов.
— Уж не думаешь ты, что я настолько глуп? — несмотря на близкую свою гибель, самодовольно спросил отец Иероним. — Небось огарок свечной нашел и возрадовался. Но огниво не найдешь, сколько ни пытайся. Это уж я позаботился…
Христофор ответил не ему, а Бурмасову:
— Искрами из глаз — сие только в присказках, Никитушка, — сказал он. — А касательно огнива их преподобие заблуждается. Говорю ж — проруха за прорухой у него! Одно огниво забрал, а другое, много лучшее, оставил и позаботился, чтобы сухое было. Я разумею кремень пистолетный. Чудо что за кремешок! Чтобы я без осечки уложил господина комтура. А мы вот сейчас кремешком-то этим… — В темноте засверкали искры — это он начал щелкать курком.
— Condemnatio! [65] — вне себя от злобы воскликнул отец Иероним.
— А мы хоть и в латыни не сильны, — отозвался Двоехоров, — однако ж на это ответствуем: «Fiat lux! [66]».
При этих словах из пистолетного затвора высыпалось еще несколько искр, и огарок свечи наконец все-таки распалился огнем. Фон Штраубе увидел отца Иеронима, стоявшего на каком-то возвышении в воде по колена. Его бельма были в бессильной злобе устремлены на них.
— Поступим по вашему примеру: тоже не станем проливать вашей крови, отец Иероним, — сказал Бурмасов. — А уж как вода распорядится, так за то мы не ответчики.
Тот ничего не стал отвечать, лишь бельма его полыхнули еще большей злобой.
Самому Бурмасову вода доходила уже почти до самой груди.
— Надо быстро отыскать выход, покуда совсем не околели, — сказал он.
В самом деле, пронзающий до костей холод уже едва-едва позволял им двигаться в ледяной воде.