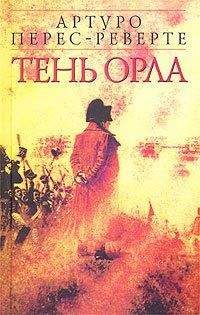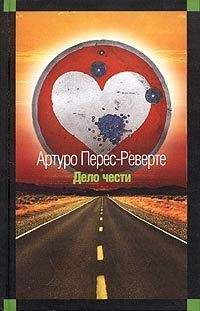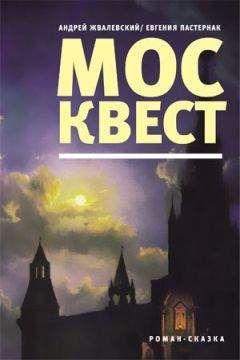Артуро Перес-Реверте - Мост Убийц
— Ничего на свете нет прекрасней и дороже любви, — с шутовским пафосом тихо сказал у меня за спиной Мануэл Пимьента.
— Святая правда. Дорога она, любовь, дорога. И ох как недешево обходится, — добавил его кум Хакете, с невозмутимым бесстыдством встретив злобный взгляд пизанца.
Тем временем наша посудина шла на веслах по широкому внутреннему каналу, оставляя по левому борту бесконечную череду стапелей со строящимися кораблями, укрытых от непогоды деревянными и черепичными навесами. Справа от нас просторные крыши оберегали парусные, такелажные, канатные склады, а еще дальше, между двумя каналами, соединенными с зеркалом воды, начиналась новая верфь, и там, за огромными раскрытыми воротами виднелся великолепный «Бусинторо» — пышно разукрашенная галера с высокими бортами, на которую в торжественных случаях восходил дож. Мы взяли ее на заметку, потому что корабль был одной из наших целей на завтра, а когда проплыли под мостом и чуть углубились в акваторию новой верфи, открылось нашим глазам, несмотря на то что большая часть кораблей стояла в закрытых доках, еще более удивительное зрелище. Один за другим, борт к борту, в воде, или вытащенные на сушу, или перевернутые, чтобы удобней было конопатить, протянулись перед нами не менее сотни крупных судов — знаменитые венецианские трехмачтовые галеры. Многие из них на зиму лишились парусного своего вооружения, а иные и мачт, а весь их такелаж был сложен на берегу. Повсюду громоздились огромные штабели древесины всех размеров, видов и форм, потребной для кораблестроения и могущей быть пригнанной к нужному месту на этой верфи, где, как уверяла молва — со свойственными ей преувеличениями, — галеру могли изготовить за одни сутки.
— О-о, м-мать твою… — пробормотал рядом со мной каталонец.
Я промолчал, хотя впечатлен был не менее и думал примерно то же и в тех же выражениях. И ограничился лишь тем, что переглянулся с Гурриато, смотревшим на это диво разинув рот. И постарался покрепче запечатлеть галеру в памяти. Рядом с внутренней гаванью начинался еще один широкий канал, где виднелись новые ряды строящихся галер, но рассмотреть их нам не удалось — лодка пошла вправо и высадила нас на причал, невдалеке от которого в больших чанах готовили смолу. Оттуда начинался под прямым углом проход между двухэтажными постройками, где помещались канатные мастерские. Вдоль него рядами в большом порядке стояли сотни якорей, кулеврин, корабельных пушек — и ряды этого тянулись, насколько хватало глаз.
Итак, мы вылезли на причал и двинулись по этому проходу среди прочих посетителей, восхищаясь тем, что видим, и втихомолку, а верней, беззвучно, ужасаясь тому поводу, по которому попали сюда. И оба чувства усилились, когда впереди показались склады, где — было известно — хранятся три тысячи бочонков пороха. Стоило лишь представить, что будет, если рванет такая уйма, мороз шел по коже у самого отважного и рискового среди нас. Ибо одно дело — рисовать стрелки на плане, и совсем другое — собственными глазами убедиться, в какое безумное предприятие мы пустились. Впрочем, казалось, венецианский Арсенал не поддастся ни огню, ни мечу, вообще ничему.
— Те, кто нас послал сюда, спятили, не иначе, — вполголоса сказал Педро Хакета.
— Боюсь, любезный кум, это не они спятили, а мы с тобой, что подрядились на такую работку, — так же тихо отвечал ему Мануэль Пимьента.
— А я тебе о чем толкую… Работка — да-а… не бей лежачего…
— Перебьют нас тут всех — и лежачих, и стоячих…
— Лучше в алжирском плену сидеть.
— Это уж — что говорить…
Я поглядел на андалусцев осудительно, как бы рекомендуя малость охолонуть и уняться и давая понять, что говорят они лишнее, но моя молодость лишила этот демарш всякого смысла: более того, — Пимьента ответил мне неприязненным взглядом и спросил с вызовом:
— Что-то я не пойму: юный кабальеро чем-то недоволен?
— Разборки здесь устраивать не стоит.
— Не рановато ли твоей милости в разборки лезть? Молоко на губах не обсохло, а туда же…
Оба удальца негромко засмеялись и, как принято у южан, подсвистнули. В других бы обстоятельствах такой грубый ответ непременно привел бы к обмену еще более резкими словами. У меня руки зачесались ответить в том смысле, что, смотри, мол, будешь звонить не ко времени — ботало оторву, да сунуть для пущей убедительности кусок стали в потроха, но житье рядом с капитаном Алатристе приучило к тому, что всему на свете — свой черед, ибо терпение есть первейшая солдатская добродетель. И всякому овощу… ну да, именно оно. Так что я прикусил язык и заставил себя сдержаться.
Само собой разумеется, Пимьента и Хакета не вняли увещеванию и продолжали пересмеиваться между собой, поскольку у меня, как и было сказано, не было ни возможности, ни желания приструнить их по праву старшего. И Жорже Куртанет, шедший со мною рядом, с очень серьезным видом покачивал головой, наблюдая все это, и бормотал себе под нос не менее серьезные слова насчет бога и святых.
Я же повернулся к мавру. Он кутался в свой толстый синий плащ с капюшоном, но все равно — от холода еле шевелил губами. И, правильно истолковав мой взгляд, ответил мне задумчивой полуулыбкой:
— Да… Войти, если войдем — одно дело… А вот выйти — другое.
По завершении осмотра мы направились к портику у одной из башен возле ворот — рядом с подъемным мостом и на противоположном берегу канала. Нам пришлось задержаться, потому что как раз в ту минуту мост подняли, пропуская корабль, который тащили на буксире несколько шестивесельных лодок. Пока ждали, к нам присоединились Себастьян Копонс и Хуан Зенаррузайбетия, оказавшиеся в другой группе посетителей, и наконец вместе со всеми мы выбрались на причал.
— Огнем с такой здоровилой ничего не сделаешь, когда подпустишь, — сказал бискаец.
Я беспокойно огляделся, хотя можно было не тревожиться: если бы даже кто-нибудь и услышал, то все равно не понял бы: мой земляк ставил слова до такой степени вразнотык, что выходила чистая абракадабра. У ворот стояли на часах несколько далматинцев с алебардами, и среди них я узнал одного из тех, кого видел с капитаном Алатристе и доном Бальтасаром в таверне у Моста Убийц. Звали его, кажется, Маффио Сагодино. На нем был грубой кожи колет, короткая немецкая епанча, кираса — поскольку он заступил в караул — и меховой берет с зеленым пером. И не знаю, узнал ли он меня или был предупрежден о нашем появлении, но, так или иначе, уставился на нас и не отводил глаз довольно долго. Я шепнул Копонсу, что́ это за фрукт, и Себастьян обратил к нему взгляд, замеченный, по всей видимости, Сагодино, поскольку тот наконец отвернулся, но ненадолго: краем глаза посмотрел на своих людей, а потом — опять на нас.