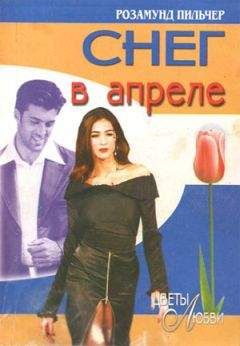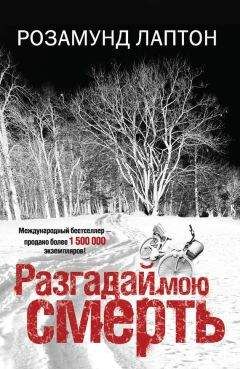Последняя из древних - Кэмерон Клэр
Схватки усилились. Над моим ухом медсестра заговорила на плохом английском: «Закрыть глаза, руки под колени, тужиться от груди вниз». Две пары рук толкали верхнюю часть моего живота. По звуку я поняла, что заработал шланг. Я собрала все силы, скрипнула зубами и стала тужиться.
Я услышала громкий рев; оранжевый и красный цвета смешались в ослепительных вспышках. Цвета истекали кровью у меня перед глазами. Я тужилась и чувствовала, как он двигается, и я продолжала двигаться, находя в себе мышцы и силы, о которых прежде не подозревала. Я рычала, кричала и тужилась, а время прекратило свой линейный ход. Все, кто жил до меня, каждое изменение в структуре нашего вида на протяжении тысячелетий, каждый изгиб мышц моих предков – все вступило в игру. Я тужилась и тужилась годами, тысячелетиями.
Лицо у моего ребенка было ярким, как полная луна. Пуповина была обернута вокруг его шеи. Доктор размотал один виток, потом другой. Снова тишина и долгое молчание, миг, одинаково бесконечный при любом рождении, потом плач, аплодисменты персонала. Комнату затопила волна облегчения. Медсестра слева от меня наклонилась и чмокнула меня в щеку. Врач держал ребенка, молотившего ногами и махавшего руками. Он положил малыша мне на грудь, и я расплакалась. Это была не радость. Только благодарность за то, что все закончилось.
Меня зашили в местах, где я порвалась, сама этого не заметив. Нас вывезли – сперва малыша в коляске, потом меня. Его повезли в другую сторону. Я хотела спросить куда, но забыла все слова. По венам тек сплошной адреналин. Руки, лежавшие у меня на коленях, как беспокойные когти, дрожали. Цвета в больнице были резкими – ярко-красный огнетушитель, ярко-желтый линолеум, яростные зеленые вихри на занавеске вокруг кровати в палате, в которую меня привезли. Меня уложили на матрас.
Я задыхалась. Чья-то рука протянула мне апельсиновый сок и крекеры. Другая рука похлопала меня по спине и пригладила волосы. Я слышала, как капала вода из дальнего крана.
Привезли ребенка и положили мне на руки. Мне удалось перестать трястись, чтобы удержать его. Мы создали идеальное тело, с мозгом и сложной нервной системой, маленьким пенисом, мягкими деснами и крошечным кричащим ртом. Все, что я чувствовала, это удивление. Мы с Саймоном создали его, а в моем теле он сформировался. Каким образом? Это за пределами моего понимания. До этого момента я думала, что знаю о жизни многое. Глядя на него, я поняла, что не знаю ничего.
Чтобы помочь мне кормить ребенка, ко мне пришла медсестра – специалист по лактации. Для такого маленького мягкого существа десны у младенца были как бритвы. Он так крепко прижался к моему соску, что мне стало больно и я вздрогнула. Медсестра поцокала языком и неодобрительно посмотрела на меня.
– Pardonnez-moi, – сказала я. – Извините. Ça fait mal. Больно.
Женщина нахмурилась в ответ. Франция славится первоклассным послеродовым уходом, но сестрам некогда разводить вежливость. Она схватила мою руку, чтобы я плотнее обхватила малыша, затем толкнула в спину, чтобы наклонить ее под правильным углом. Я слышала, что во Франции уровень грудного вскармливания ниже, чем в других западных странах, и теперь догадалась почему. Она толкала, сгибала и комментировала.
Очевидно, у меня получалось плохо. Мои соски ей не нравились. Лучше бы у меня была большая грудь. Может, мне стоит попробовать сесть в кресло.
От этих поучений я и сама чувствовала себя как ребенок – неуспевающий школьник. Измученная и истерзанная, я все еще ощущала прилипший к коже запах смерти. Я начала плакать, даже не пытаясь скрыть слезы. Медсестра взяла моего ребенка на руки. Как будто делая мне одолжение, она дала понять, что у меня есть минутка, чтобы прийти в себя. Повернувшись ко мне спиной, она качала моего ребенка, шепча что-то успокаивающее в его маленькое ухо.
Моим первым побуждением было вскочить и отнять ребенка. Мое!
Разве она не видела, что я только что сделала? Я создала эту жизнь, и я же сохранила ее. Отдай мне, черт возьми, ребенка и пальто, и я улечу отсюда как герой.
Но я ничего не сказала. Вместо этого я сидела и плакала – в заляпанной кровью сорочке, на механизированной кровати, под уродскими занавесками. Мне давали крекеры и апельсиновый сок и обращались со мной, как будто я больна. Мне ли разевать рот и говорить им, что я герой. Все решили бы, что я рехнулась.
Часть четвертая
24
Струк не вернулся. Дочь терпеливо ждала, не поднимая шума, и все равно он не вернулся. Она вообразила, что они играют в игру и Струк прячется. Заглядывая за каждый камень и дерево, она шумела, подражая зубру. Но он не смеялся. Не кричал. Не выскочил и не завопил во весь голос: «Бу-у!»
Дочь развела костер на случай, если он заблудился. Бросила в огонь зеленые ветви и в качестве сигнала выпустила в небо черный дым. Если он и увидел это, то не повернулся и не направился в ее сторону. Она кричала и звала, забралась на дерево, чтобы посмотреть как можно дальше вокруг. Уже под вечер Дочь начала выискивать его следы, пытаясь проследить каждый шаг. Струк часто ходил бессмысленными кругами, и эти следы перепутались со следами от повседневного хождения вокруг лагеря. Каждый найденный отпечаток, казалось, в очередной раз говорил о потере.
К закату она ушла далеко от помеченного косыми надрезами дерева, от которого Струк начал свой путь. Он перешел через скалу, которая поднималась из земли, как сгорбленная спина, а затем перепрыгивал с камня на камень. Она то находила следы его ног, то снова теряла. Это не было похоже на следы удравшего из дома ребенка, которого вело безудержное любопытство, возникшее вместе с первым вкусом свободы. В семье иногда рождались дети, склонные к таким побегам. Их называли искателями, и они бежали туда, куда вела их прихоть. Чаще всего их ждал ранний конец, как случилось с одним из ее братьев. Мальчик, еще младше Струка, угодил в пасть льву, прежде чем они успели заметить, что он ушел. На месте встречи девочка из другой семьи точно так же утонула в открытом устье реки. Правда, иногда искатель находил что-то новое – потерянное орудие или закопанную и забытую посудину – и гордо приносил домой. Но Струк определенно не принадлежал к искателям.
Раньше он никогда не убегал. И ведь Струк достаточно большой, подумала Дочь, чтобы понимать, что делает. Больше всего ее удивили скорость и расстояние, которое, судя по следам, он преодолел. Он шел по прямой и явно с какой-то целью. В отличие от Дочери, которой приходилось часто останавливаться, чтобы растереть отекшие ноги.
Чем дальше она спускалась по склону, тем больше ее легкие распухали от сухого воздуха. Это был дальний склон горы, противоположный тому, у которого шла рыба. Семья не ходила в эти края, потому что летом там было слишком сухо, а зимой слишком холодно. Там было меньше деревьев, защищающих тело от ветра, а снег падал густыми хлопьями, и ему ничего не препятствовало.
Вскоре стемнело, слабая луна давала мало света. Она вообразила, что за каждым поворотом прячутся странные, сверкающие глаза и языки, облизывающиеся при виде круглого живота и полных грудей. Несмотря на темноту и пересеченную местность, Струк не остановился. И в своем нынешнем состоянии она не собиралась его ловить.
Но это не помешало Дочери идти по следам Струка. Больше всего на свете ей хотелось отыскать его. Ведь, кроме нее, его некому было защитить. Мысль о том, что мальчик сейчас один в темноте, вызвала такой же страх, как когда змея заползла ему на спину, и когда большой медведь поднял голову, и когда она не смогла вовремя распознать у него жировую болезнь. Эти воспоминания затуманили ее глаза, так что она почти ничего не видела перед собой. Но, когда небо окрасилось в рассветные цвета, пришлось остановиться. Дочь смотрела и смотрела, но она потеряла его следы. А без следов идти было некуда. Она только отдалится от него. А что, если он вернулся в лагерь и сидит у очага один, недоумевая, куда она ушла?