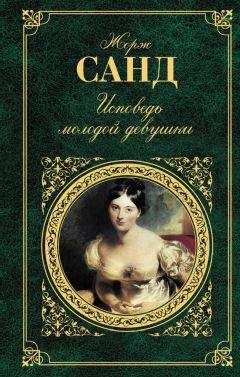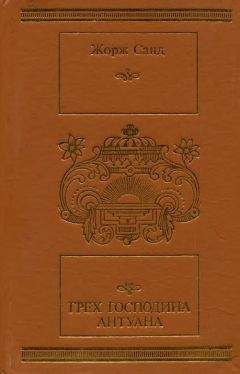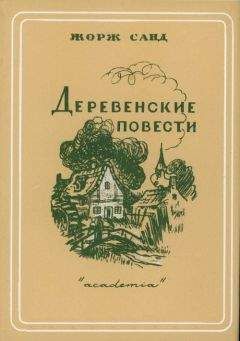Жорж Санд - Пиччинино
Но в восемнадцать лет самые невероятные предположения кажутся порой самыми вероятными. И Микеле казалось поэтому гораздо правдоподобнее, что его полюбили еще до того, как увидели; и когда сон наконец одолел его, оба медальона все еще лежали у него на ладони.
Но когда около полудня он проснулся, то нашел только один: другой, видимо, затерялся в постели. Микеле всю ее перерыл и обшарил. Он потратил целый час, осматривая все щели в полу, все складки своей одежды, лежавшей на стуле у изголовья. Один из двух талисманов исчез.
«Не иначе, как это проделки мамзель Милы», — подумал он. Дверь его комнатки была закрыта лишь на щеколду, и молодая девушка, напевая, работала в соседней мансарде.
— Ага, наконец-то вы встали! — сердито сказала она, когда он зашел к ней. — Давно бы так! Ну что, вернете вы мне мой медальон?
— Мне кажется, моя крошка, что вы сами пришли и забрали его у меня, пока я спал.
— Да ведь вот он, вы держите его! — воскликнула Мила, внезапно схватив его за руку. — Ну, разожмите же пальцы, не то я исколю их иголкой.
— Охотно, — сказал он, — но этот медальон не ваш, свой вы у меня уже взяли.
— Вот как! — сказала Мила и вырвала медальон у брата, который, слабо защищаясь, пристально глядел на нее. — Этот медальон не мой? Вы думаете, что я могу ошибиться?
— Тогда, значит, вы взяли другой?
— Какой другой? Разве у вас тоже есть медальон? Я не знала; но этот — мой; вот вензель княжны, это моя собственность, моя реликвия. Забирайте обратно свои волосы, раз мы в ссоре, я согласна; но с медальоном я не расстанусь.
И она спрятала его на груди, вовсе не собираясь выбросить из него волосы, которые ценила больше, чем хотела сознаться в своей детской досаде.
Микеле вернулся в свою комнату. Второй медальон был, очевидно, там. Мила говорила так уверенно и у нее было такое правдивое выражение лица! Но и на этот раз он ничего не нашел и решил поискать в комнате сестры, как только та уйдет. Пока же он попробовал помириться с ней. Он принялся ласково ее уговаривать, упрекая в чрезмерной гордости и подозрительности, и клялся, что все происшедшее было просто шуткой.
Мила согласилась помириться с братом и поцеловать его; но она все еще оставалась немного грустной, и ее розовые щечки были бледнее, чем обычно.
— Ах, братец, — сказала она, — плохо вы выбрали время, чтобы мучить меня; бывают дни, когда особенно трудно переносить насмешки, и я подумала было, что вы это делаете нарочно, чтобы посмеяться пав, моими горестями.
— Твоими горестями, Мила? — воскликнул Микеле, с улыбкой прижимая ее к сердцу. — У тебя есть горести? Ты огорчена, что не видела вчерашнего бала, да? Ах, тогда ты в самом деле пренесчастная маленькая девочка!
— Прежде всего, Микеле, я не маленькая девочка. Мне скоро пятнадцать лет, в этом возрасте уже можно иметь горести. Что до бала, то, по правде говоря, я думала о нем очень мало, а теперь, когда он позади, совсем больше не думаю.
— Какие же у тебя в таком случае горести? Может быть, тебе хочется новое платье?
— Нет.
— Уж не умер ли твой соловей?
— Ведь он поет. Разве вы не слышите?
— Уж не съел ли жирный кот нашего соседа Маньяни твою горлицу?
— Пусть бы попробовал! Я знать не хочу ни господина Маньяни, ни его кота!
Тон, каким Мила произнесла имя Маньяни, заставил Микеле насторожиться, а заглянув в лицо сестры, склонившейся над работой, он увидел, что смотрит она на деревянную галерею, где обычно, прямо против ее комнаты, работал Маньяни. В эту минуту он как раз проходил по галерее. Он не смотрел на окно Милы; она не смотрела на свою работу.
— Мила, ангел мой, — сказал Микеле, беря обе ее руки и целуя их, — видишь ты того юношу, что идет по галерее с таким рассеянным видом?
— Да, ну и что же? — то бледнея, то краснея ответила Мила. — Какое мне до него дело?
— Я только хочу сказать тебе, дитя мое, что если твое сердце захочет когда-нибудь полюбить, об этом молодом человеке тебе думать не следует.
— Вот еще глупости! — воскликнула Мила, вскинув голову и пытаясь рассмеяться. — Да он последний, о ком бы я тогда подумала.
— И правильно бы сделала, — продолжал ее брат, — потому что сердце Маньяни не свободно: он вот уже много лет любит другую женщину.
— Это меня не касается и совершенно мне безразлично, — ответила Мила и, склонив голову к работе, быстро запустила колесо прялки. Но Микеле с грустью увидел, как две крупные слезы скатились на моток сырцового шелка.
Микеле обладал большой душевной деликатностью. Он понял, какой стыд охватил его юную сестру, прибавив еще новую муку к мукам ее уязвленного сердца. Он видел, какие сверхъестественные усилия делает бедная девочка, чтобы подавить рыдания и преодолеть свое смущение. Он понял, что в этот миг нельзя было еще больше оскорбить ее, продолжая расспрашивать.
Итак, он сделал вид, будто ничего не заметил, и, решив серьезно поговорить с ней, когда она будет лучше владеть собой, вышел из комнаты, где она работала.
Но и сам он был так взволнован, что, придя к себе, не мог оставаться спокойным. В последний раз он принялся искать медальон, но в конце концов отказался от напрасных поисков, понадеявшись на то, что, как это нередко случается с потерянными предметами, вещица сама попадется ему под руку, когда он меньше всего будет о ней думать. Он решил пойти к Маньяни, чтобы помириться с ним, ибо они расстались, сердясь друг на друга, и Микеле, не имевший более сил сдерживать тайную гордость от сознания, что он страстно любим княжной, ощущал новый прилив великодушного участия к своему обездоленному сопернику.
Он поспешил перейти двор и вошел в мастерскую отца Маньяни. Но напрасно искал он друга — Антонио не было ни в мастерской, ни в его комнате. Старушка мать сказала, что сын только что вышел, но куда он направился, она не знала. Тогда Микеле устремился за город, отчасти потому, что надеялся встретить там друга, отчасти — чтобы предаться своим мечтам.
Маньяни между тем, побуждаемый тем же чувством симпатии и великодушия, решил пойти к Микеле. Выйдя из своего скромного жилища другим ходом, он кружным путем, через узкий, темный переулок позади обоих смежных строений направился к бедному, ветхому дому, где жил Пьетранджело с детьми.
Таким образом, молодым людям не удалось встретиться. Маньяни поднялся во второй этаж и заглянул в большую, бедно обставленную комнату, где увидел лежавшего на своем скромном ложе Пьетранджело. Старик спал спокойным сном, уже не нарушаемым, как бывало в молодости, волнениями любви.
Тогда Маньяни поднялся по лестнице, или, вернее, по деревянной стремянке, ведущей к мансардам, и оказался перед комнатой Микеле, смежной с комнатой Милы.