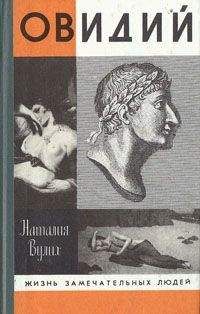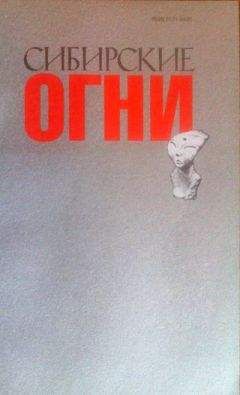Александр Зорич - Римская звезда
Но что случилось? Ведь просто так зверь беспокоиться не будет. Да и стрига тварь не из нервных.
Беспокоится – значит чует опасность для хозяина, который кормит ее нерастраченным волшебством бессонных ночей и невыплаканными слезами. Если хозяин умрет, чем будет питаться зверь?
Я прильнул к решетке. Вдруг кто-то из приятелей Рабирия тайком сжимает под полой плаща кинжал? Быть может, под ложем затаился заговорщик? Яд дымится в чаше? Или вот сейчас дверь задрожит под ударами сапог и в триклиний ворвутся преторианцы в черных масках? Молчаливые и потные, они переколют всех, как свиней? Визг, ор, кровища фонтанами до самого потолка!
Но, как я ни присматривался, ничего странного не приметил – Рабирий, пребывающий в своей раздумчивой разновидности, с механическим постоянством закидывал в рот орешки, глядя в никуда.
Вибия соревновалась в ослоумии с одухотворенными вином пацанами.
Лика, как видно, пробовалась в модели для создания скульптурной Аллегории Скорби.
Свинцовой стала моя голова. И начала она болеть так, как не болела даже после того как беспризорные сарматы огрели меня дубьем на берегу Истра. Вот она, расплата: слишком долго пялился на то, на что нельзя человеку глядеть.
Я смежил веки. И ощущение густого ужаса, которое обволокло меня после того, как я приобщился к тайне Рабирия, медленно отступило. Мы даже не представляем себе, насколько зависим наш страх от наших глаз, как будто даже сделан из них наполовину. Не вижу зла – и более не боюсь его… Может оттого и смел был Гомер, оттого и светел как солнце, что слеп? Я сам не заметил, как снова задремал.
Судя по разговору в триклинии, расходиться никто не собирался, а раз не собирался, значит, мне можно было не беспокоиться. Все равно бесшумно выползти из своей узины и уйти домой я не смогу. Придется ждать окончания банкета…
Засыпая, я думал о том, что, в принципе, прикончив Рабирия, я оказал бы Риму добрую услугу.
Причем, не только поэтическому Риму.
Ведь ничего хорошего стрига, пожирательница младенческих кишочек и менструальной крови, надиктовать человеку не может. Но самое ужасное, надиктованное стригой «плохое» скорее всего не будет бесталанным (ведь бесталанное пишется без диктовки). То есть, имеем худший вариант. Нечто тлетворное по сути, однако сносное по содержанию и даже игривое по форме. В портовом лупанаре всегда встретишь рабыню, соответствующую такому описанию – девочку дивной абиссинской красоты, больную до самого дна своей испорченной задницы отвратительной срамной болезнью, которую не вытравить ни одним халдейским порошком.
И если хорошие поэты создают прекрасные невидимые цветы, целые поля синих маков и охряно-желтых крокусов, которые, отцветая, производят семена – падая с небес на землю, эти семена через некоторое время прорастают на ней цветами самого разного свойства – от детей, цветов жизни, до цветов папоротника и девушек в цвету – то что же создает в тонком мире плохой поэт, со стригой на плече? Дерьмо? Ах, если бы! Скорее уж антицветы, не дающие цветам вегетировать. А еще вернее – своеобразный злой апейрон, втянув который ноздрями, человек начинает верить, что цветы – бабская забава, что боги выдумка жрецов, а жрец, по определению, способен только «жрать», что любовь нужна для хорошего траха, а Отечество там, где лучше кормят. Как-то так, в этом духе.
Светлые боги, вы слышите меня? Я не хочу знать, что именно создают в тонком мире стихи Рабирия, даже боюсь это знать! Я слишком устал знать, я хочу домой, я лично прощаю его, этого опухшего от излишеств лгуна. Но вы, светлые боги, прощать его не имеете права! Ведь иначе мы верить в вас перестанем, вообще перестанем верить! Посмотрите на нас со своих снеговых высот, мы здесь.
8. Меня разбудил звенящий крик Лики.
Женщины кричат так крайне редко. Чтобы женщина издала такой вопль, недостаточно, чтобы ее жизни угрожала опасность. Нужно, чтобы она угрожала жизни ее ребенка или любимого. (Женщине столь же привычно жертвовать собой, как мужчине – брить бороду, ведь женщины тоже занимаются этим каждый день.) Этот крик высок и жуток – как немигающий взгляд стриги. Во время сарматских набегов у меня была возможность стать в теме чем-то вроде эксперта.
Сон слетел с меня, тело напряглось. Я вновь прильнул к своей смотровой щели.
Увы, кособокая спина вставшего на ложе Аттилия и кобылий круп Вибии заслонили для меня происходящее. Из выкриков, правда, можно было кое-что понять.
– Да сделайте же что-нибудь! – вопила Лика. – Не видите, ему плохо!
– А что с ним вообще? – тер соловые глаза Тигр. – Я что-то не понял. Сидел-сидел, потом…
– Не в то горло попало! Орехом подавился, – пояснял новичок, тот, что поддерживал старого лавочника.
– Мать-Геката, снизойди! – патетически гнусила Вибия, закатывая глаза к потолку.
– Может, сейчас откашляется?! Говорят, это иногда само проходит!
– Д-доктора звать н-н-надо!
– С ума сошел? Ночь на дворе!
– Ну и что? По-твоему, доктора по ночам в крыс перекидываются и по помойкам шарят?
– Крысы и есть! Один с меня сто сестерциев попросил за то, что мозоль мне срежет. Да я за эти деньги не то что мозоль, ногу оторву!
– Аттилий, живо за доктором! Тут на углу Кожевенной и Иудейской живет один грек, зовется Мироном. Скажи: десять гонораров получит, ежели спасет!
– Лучше скажи двадцать, – уточнила Вибия, пересчитывая наличность.
Аттилий вскочил с ложа и понесся в выходу. Образовалось оконце – как раз для моих жадных глаз.
А через него я увидел…
…В мерцающем свете ламп, на полу триклиния, извивался Рабирий. Он лежал на спине, выгнувшись мостком вверх, словно пол был раскаленным. Судорожно отталкиваясь ступнями, он как будто полз вот таким кандибобером от своего пиршественного ложа к выходу.
Его дыхание – сипящее, булькающее, трудное – напоминало мне звуки, которые издают во время перебоев с водой мои подопечные, свинцовые трубы. Я даже не уверен, что было это дыхание, а не какой-нибудь зловещий нефизический звук.
Одна рука Рабирия была плотно, как у припадочного, приклеена к телу. Другая – сжимала горло под кадыком. Могло показаться, что его душит некая незримая сила, а он пытается ей в этом помешать. Судя по тому, как посинели его лицо и ногти, как вздулась вены на шее, незримая сила неуклонно брала верх. Рабирий был без сознания.
На том месте, где только что он корчился, я заметил небольшую, размером с ладонь, волосистую вещицу.
Лика тоже заметила ее, подобрала и прижала к красному от слез лицу. Тотчас Рабирий изменил положение и его правильной формы голова сверкнула плешью.
Только тут я догадался: Лика подобрала паричок. Его прилаживал Рабирий к облыселому темени – клеем или, быть может, шпильками, – чтобы казаться вихрастым, кудрявым, всегда-навсегда-молодым. Хороший паричок, искусный. Я, например, сроду не догадался бы.