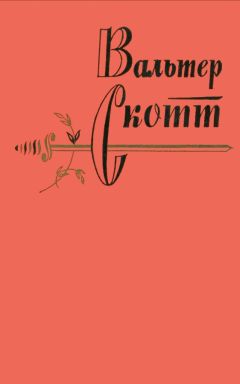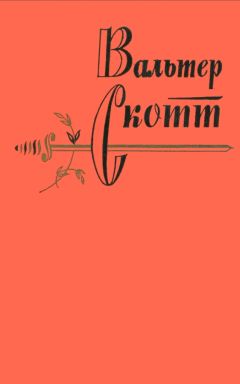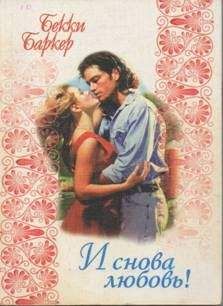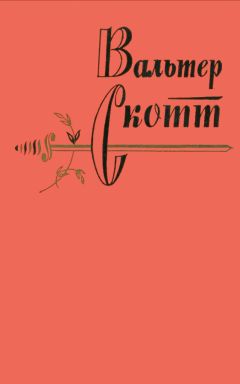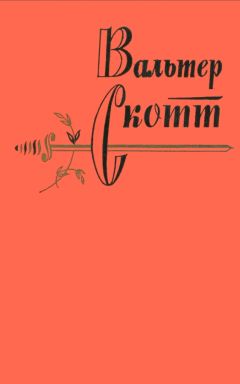Вальтер Скотт - Вальтер Скотт. Собрание сочинений в двадцати томах. Том 20
Однако среди крестоносцев было множество людей, настроенных совершенно иначе. В числе всех этих графов, сеньоров и рыцарей, под чьими знаменами крестоносцы пришли к стенам Константинополя, было немало фигур столь незначительных, что никому в голову не пришло покупать их согласие на неприятную процедуру присяги. Эти люди хотя и покорились, опасаясь проявлять открытое сопротивление, однако их насмешливые замечания, издевки и попытки нарушить порядок явно свидетельствовали о том, что к совершаемому шагу они относятся с презрением и негодованием, ибо государь, вассалами которого они себя объявляли, исповедовал, по их мнению, еретическую веру, только хвалился своей силой, а на деле был слаб, при первой возможности нападал на крестоносцев и дружественно обходился только с теми, кто мог принудить его к этому; короче говоря, будучи подобострастным союзником могучих предводителей, по отношению ко всем остальным он вел себя при всяком удобном случае как коварный и смертельный враг.
Особенно выделялись высокомерным пренебрежением ко всем остальным нациям, участвовавшим в крестовом походе, а также безудержной храбростью и презрительным отношением к могуществу и силе Греческой империи французские рыцари. У них в ходу была даже поговорка, что если обрушится небо, то французские крестоносцы без чьей-либо помощи сумеют поддержать его своими копьями. С такой же спесивой дерзостью вели они себя и во время нередких ссор со своими хозяевами поневоле и большей частью одолевали греков, несмотря на изворотливость последних. Поэтому Алексей твердо решил во что бы то ни стало избавиться от этих непокорных и заносчивых союзников и любыми способами поскорее переправить их через Босфор. А чтобы эта переправа прошла возможно спокойнее, он решил воспользоваться присутствием графа Вермандуа, Готфрида Бульонского и других влиятельных вождей крестоносцев, могущих поддержать порядок среди многочисленных французских рыцарей, не столько знатных, сколько буйных.
Обуздывая оскорбленную гордость благоразумной осторожностью, император заставлял себя благосклонно принимать присягу, приносимую с явной насмешкой. Но тут случилось происшествие, с необычайной наглядностью показавшее, как различны чувства и образ действия этих двух народов — греков и французов, сведенных вместе при столь необычных обстоятельствах. Уже несколько французских отрядов, прошествовав мимо императорского трона, не без некоторой торжественности совершили обряд.
Преклонив колено перед Алексеем, рыцари вкладывали свои руки в его и в этой позе произносили слова ленной присяги. Когда присягу принес уже упомянутый Боэмунд Антиохийский, император, желая уважить и ублажить этого лукавого человека, своего бывшего врага, а ныне, по всей видимости, союзника, сделал с ним несколько шагов по направлению к берегу, где стояли предназначенные для Боэмунда суда.
Император, как мы уже сказали, прошел совсем недалеко; этот жест был сделан лишь для того, чтобы почтить Боэмунда, однако он послужил поводом для оскорбительной выходки, которую гвардия и приближенные Алексея восприняли как намеренное унижение Императора. С десяток всадников, составлявших свиту франкского графа, которому предстояло принести сейчас присягу, на полном галопе отделились во главе со своим господином от правого фланга французской конницы и, доскакав до все еще пустого трона, осадили коней. У графа, атлетически сложенного человека, было решительное, суровое и очень красивое лицо, обрамленное густыми черными кудрями. Он был в берете и в облегающей одежде из замши, поверх которой обычно носил тяжеловесные доспехи, как это было принято у него на родине. Однако на сей раз он для удобства не надел их, проявив тем самым полное пренебрежение к столь торжественной и важной церемонии. Не дожидаясь Алексея и нисколько не тревожась мыслью о том, что непристойно ему торопить императора, он соскочил с могучего коня и бросил поводья, которые тут же подхватил один из его пажей. Без минуты колебаний статный, небрежно одетый франк сел на свободный императорский трон и, развалясь на шитых золотом подушках, предназначенных для Алексея, принялся лениво поглаживать огромного свирепого волкодава, который следовал за ним по пятам и чувствовал себя так же вольно, как и его хозяин. Пес небрежно растянулся у подножия императорского трона на узорчатом дамасском ковре, не испытывая, видимо, уважения ни к кому, кроме сурового рыцаря, своего признанного хозяина.
Император, в виде особой чести немного проводив Боэмунда, повернулся и с изумлением увидел, что трон его занят дерзновенным франком. Отряд полудиких варягов, стоявших вокруг трона, не стал бы ждать и минуты, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное этим наглецом их владыке, если бы их не сдерживали Ахилл Татий и другие военачальники, которые, не зная, какова будет воля императора, боялись принять решение.
Тем временем бесцеремонный рыцарь громко сказал на своем провинциальном наречии, понятном, однако, и тем, кто знал французский язык, и тем, кто не знал, настолько недвусмысленны были его тон и все поведение:
— Что это за невежа, который сидит, словно деревянный чурбан или бессловесный камень, в то время как столько благородных людей, цвет рыцарства и образец отваги, стоят с обнаженными головами перед трижды побежденными варягами?
В ответ раздался голос, такой низкий и отчетливый, словно он исходил из недр земли и принадлежал существу другого мира:
— Если норманны желают биться с варягами, они могут встретиться с ними в поединке, лицом к лицу, а оскорблять греческого императора постыдно, потому что всем известно, что сражается он только алебардами своей гвардии.
Эти слова поразили всех, даже рыцаря, который оскорбил императора и тем самым вызвал такой от пор. Напрасно старался Ахилл обуздать своих воинов и принудить их к молчанию — громкий ропот свидетельствовал, что они вот-вот выйдут из повиновения.
Боэмунд протиснулся сквозь толпу с поспешностью, которая была бы не к лицу Алексею, взял крестоносца за руку и как бы дружественно, но до некоторой степени и насильно заставил его сойти с императорского трона, на котором тот столь дерзко расположился.
— Что я вижу? — сказал Боэмунд. — Благородный граф Парижский? Есть ли среди этого высокого собрания хоть один человек, который останется равнодушным к тому, что имя рыцаря, столь прославленного своей доблестью, отныне будет запятнано пустой ссорой с продажными воинами из императорской гвардии, заслуживающими лишь одного звания — звания наемников? Стыдись, стыдись, не позорь себя, ведь ты — норманский рыцарь!