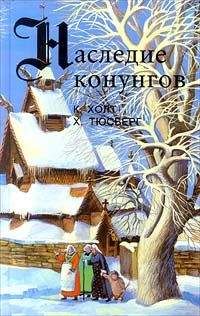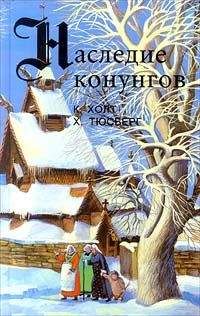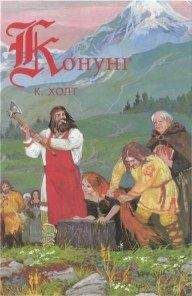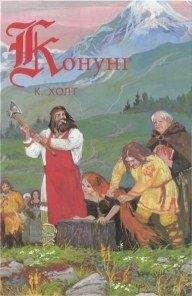Анатолий Коган - Войку, сын Тудора
— Что там ни говори, — упрямо заметил пан Бучацкий, — князь Штефан не зря бил мунтянского труса, где ни встречал. В Польше тогда говорили: пан Штефан бьет воеводу Раду, как сильный кот трусливого котенка с соседнего двора.
— Князь Раду не был трусом, — возразил Мырза. Глаза молодого вельможи задумчиво следили за пляской искр над угольями мангала. — Просто это очень невезучий человек. Да и наш воевода впервые ударил на него только тогда, когда увидел, что мунтянин остается султану верной слугой. У нас все думали, что Раду, посаженный Мухаммедом на отцовский престол, отложится от своего господина. Но вышло по-другому, и вся сила турка не защитила мунтянина от гнева Штефана-воеводы. Господа рыцари знают, верно, — добавил сын Станчула, — что взятая в плен семья князя Раду до сих пор в Сучаве. Даже верные слуги нашего государя до сих пор думают, что с Раду он слишком жесток.
— А по-моему, — проворчал Володимер, — все по правде. Басурманский холоп получил, что заслужил.
— Вот уж, панове, не воинский спор. — Пан Велимир, осушив кубок, еще вольнее развалился на войлоках и кошмах. — Будто мы в иноческой келье! Справедливость, жестокость! Монашеские слова, панове, школярские! Наш воинский судья — острый меч, он всегда верно решит, кто прав.
— Сам Александр Великий одобрил бы эти слова, — с легкой усмешкой проронил флорентиец.
— А разве не так? — покосился на него Бучацкий. — Был я, пан рыцарь, у вас в Падуе, слушал речи в тамошнем университете. Меняется, мол, к лучшему грешный сей мир, и всем теперь будет править справедливость и наука. Прошло десять лет, объехал я с тех пор полсвета, а мир все такой, каким был, и правит в нем, как прежде, сила. И дай бог, чтобы так оставалось всегда. Чтобы вместо рыцарской силы не заступила хитрость на престол мирских дел.
— По мне тоже, — улыбнулся Персивале, — лев предпочтительнее змеи. Лев благороден, рыцарь. И правы светлейшие умы времени: власть и сила должны с поклоном прийти к правде, ибо видят, что справедливость и благородство — лучшая опора царства.
И ученый рыцарь принялся вдохновенно рассуждать о наступлении новых времен, когда расцвет знания и искусства неминуемо приведет народы к добродедели древних, к царству закона и разума.
Флорентинца слушали с интересом. С сочувственной улыбкой внимал итальянскому воину молодой боярин Мырза, застыло в воздухе отточеное перо Володимера. Пан Велимир, один из всех, однако, явно скучал. И так зевнул, раскрыв львиный зев, что Домокульта первый расхохотался.
— Вижу, вижу, — признал флорентиец, — царь зверей не стал бы слушать меня и павийских моих наставников. Сдаюсь, ваша милость, и прошу за это чашу из того бурдюга, который вы так предусмотрительно загородили от нас плечом.
Но тут вошел человек, скорее — призрак, вместе с которым в шатер внезапно вернулась действительность — и недавняя битва, и пир на поляне казненных, и сама смерть. Придерживая развевающиеся полы черной шубы, такой широкой, что ее можно было принять за мантию первосвященника, в походное жилище пана Молодца вошел врач Исаак. Поздоровавшись, он тяжело опустился на единственную в шатре скамеечку, которую, пересев на кошму, пододвинул ему Володимер.
— О, пан Исаак! — с преувеличенной торжественностью воскликнул оживившийся поляк. — Теперь, слава Иисусу, все вероисповедания у нас в сборе.
Лекарь господаря не ответил. На его почерневшем от бессоннице лице застыла безмерная боль всех утрат, понесенных им, единственным врачом этого войска, в последние трое суток, — всех раненых, которых он не смог спасти. Спасенных, правда, было больше, но радость недолга, а скорбь, как злой сорняк, пускает корни глубоко. Старый лекарь неотступно думал в тот час также о еще одной утрате — о сыне, пирующем с иноверцами.
Врач Исаак был не из тех евреев, которые запрещали сыновьям такое общение, он считал ложными мудрецами цадиков, готовых произнести проклятие над нечестивцем, выпившим чашу хмельного напитка с необрезанными. Но Давид все больше вживался в боевое товарищество молавских войников, в чету орхейского пыркэлаба, где его давно считали своим. Рано или поздно Давид, сын Исаака, уйдет. Он покинет отца, ибо нет у него влечения к врачеванию. И оставит, видимо, веру, ибо трудно молиться Яхве, когда вокруг ежечасно славят имя его мнимого сына Христа. Старый лекарь был терпим в вопросах веры и племени, но отступников не любил. Что будет с его Давидом? Не напрасно ли он разрешил ему, еще мальчишке, упражняться с государевыми витязями, сначала в стрельбе из лука, а потом и рубке на саблях?
— Пан Виркас Жеймис умирает, — сказал еврей.
Лица воинов помрачнели. Большинство стало подниматься.
— Вас, вельможный пан, прошу повременить, — обратился Исаак к Бучацкому, — Мне надо заняться вашей раной.
— Оставьте это, пан еврей. — Вельможа пытался рассмеяться, но боль остановила его. — Шрамы красят лицо мужчины.
— Дело не в шраме, рыцарь, — властно сказал лекарь, — речь идет о жизни, как при любой ране выше плеча. Сделайте милость, сядьте.
Войку между тем поднял глаза на Володимера. Русский сразу понял немую просьбу друга.
— Иди, Чербул, иди, я никуда не двинусь. Пан Тоадер наказал три листа написать, ни буковкой меньше.
Обменявшись несколькими словами с Юнисом, Войку вместе с остальными вышел на морозный воздух. Молодой турок задумчиво продолжал начатую партию, играя и за противника и за себя. Исаак обрабатывал настойкой ладана широкую, рубленую рану, пересекавшую подбородок польского рыцаря. Все молчали, только перо Володимера нарушало тишину уютным скрипом, потрескивали уголья в жаровнях и глухо доносился шум далекого пиршества, поутихшего из-за многих потерь среди веселящихся, причиненных крепким хмелем войницкого питья.
— Как ваш сын, пан лекарь? — глухо вымолвил наконец Бучацкий. — Он храбро бился в этом бою.
— Здоров, ваша милость. Слава богу, здоров, — с холодной учтивостью ответил Исаак.
«Может быть, — думал врач, — все идет, как надо? Ведь бились евреи и после расселения своего по миру во многих странах, где обретали хоть на время новую родину. Сражались с врагами и пили на победных пирах, и оставались евреями. Они дрались в войсках хазар против византийских легионов. Вместе с русичами защищали старый Киев от монголов, и среди последних ворот города, взятых батыевой ордой, были отстаиваемые ими Жидовские врата. Давид стал воином, и лекарем, как отец, ему уже, видно, не быть. Но хочет ли этого сам бог, чьи поступки не могли порой уразуметь и мудрейшие патриархи библейской старины? Как бы то ни было, надо радоваться: парень выполнил свой долг перед князем этой страны, так хорошо принявшим в своей столице их семью.»