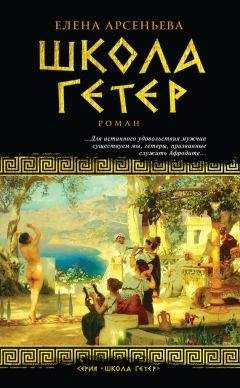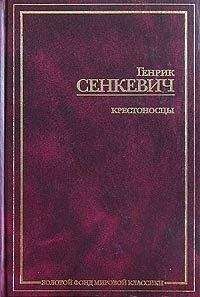Генрик Сенкевич - Крестоносцы
Это «эй!» раскатилось по лесу, отдалось от придорожных деревьев и, отозвавшись эхом вдали, замерло в лесной чаще.
А Мацько снова пощупал свой бок, в котором застряло немецкое жало, и сказал, покряхтывая:
— В старину люди поумней были — понял?
Однако задумался на минутку, словно вспоминая давние времена, и прибавил:
— А впрочем, и в старину дураки бывали.
Но тут они выехали из лесу, за которым увидели рудный двор, а за ним зубчатые стены Олькуша, возведенные королем Казимиром, и колокольню костёла, сооруженного Владиславом Локотком.
X
Гостеприимный приходский каноник, поисповедав Мацька, оставил путников на ночлег, так что они выехали только на следующий день утром. За Олькушем они повернули в сторону Силезии, вдоль границы которой должны были ехать до самой Великой Польши. Дорога большей частью пролегала дремучим лесом, где на закате то и дело раздавался рык туров и зубров, подобный подземному грому, а по ночам в чаще орешника сверкали глаза волков. Но куда большая опасность грозила на этой дороге путникам и купцам от немецких или онемечившихся силезских рыцарей, чьи небольшие замки высились то там, то тут вдоль границы. Правда, во время войны короля Владислава с опольским князем Надерспаном, которому помогали его силезские племянники, поляки разрушили большую часть этих замков; все же здесь всегда надо было быть начеку и, особенно после заката солнца, не выпускать из рук оружия.
Однако наши путники спокойно продвигались вперед, так что Збышку уже наскучила дорога, и только однажды ночью на расстоянии одного дня езды до Богданца они услышали позади конский топот и фырканье.
— Кто-то едет за нами, — сказал Збышко.
Мацько, который в эту минуту не спал, поглядел на звезды и, как человек опытный, заметил:
— Скоро рассвет. На исходе ночи разбойники не стали бы нападать, им, как начинает светать, пора по домам.
Збышко все-таки остановил телегу, построил своих людей поперек дороги, лицом к приближающимся незнакомцам, а сам выехал вперед и стал ждать.
Спустя некоторое время он увидел в сумраке ночи десятка полтора всадников. Один из них ехал впереди, в нескольких шагах от прочих, но, видно, не имел намерения укрыться и громко распевал песню. Збышко не мог разобрать слов, но до слуха его явственно долетало веселое «Гоп! Гоп!», которым незнакомец заканчивал каждый куплет своей песни.
«Наши!» — сказал он про себя.
Однако через минуту крикнул:
— Стой!
— А ты сядь! — ответил шутливый голос.
— Вы кто такие?
— А вы кто такие-сякие?
— Вы что за нами гонитесь?
— А ты что дорогу загородил?
— Отвечай, а то тетива натянута.
— А наша перетянута — стреляй!
— Отвечай по-людски, ты что, в беде не бывал, нужды не видал?
На эти слова Збышку ответили веселой песней:
Нужда с нуждой повстречались,
На развилке в пляс пускались…
Гоп! Гоп! Гоп!
Что ж так лихо расплясались?
Верно, век уж не встречались…
Гоп! Гоп! Гоп!
Збышко поразился, услыхав такой ответ, а тем временем песня смолкла, и тот же голос спросил:
— А как здоровье Мацька? Скрипит ещё старина?
Мацько приподнялся на телеге и сказал:
— Боже мой, да ведь это наши!
Збышко тронул коня.
— Кто спрашивает про Мацька?
— Да это я, сосед, Зых из Згожелиц. Чуть не целую неделю еду за вами и расспрашиваю про вас по дороге.
— Господи! Дядя! Да ведь это Зых из Згожелиц! — крикнул Збышко.
И все весело стали здороваться. Зых и в самом деле был их соседом и к тому же человеком добрым, которого все любили за веселый нрав.
— Ну, как вы там поживаете? — спрашивал он, тряся руку Мацька. — Еще скачете или уж не скачете?
— Эх, кончилось уж мое скаканье! — ответил Мацько. — До чего же я рад вас видеть. Боже ты мой, будто я уж в Богданце!
— А что с вами? Я слыхал, вас немцы подстрелили.
— Подстрелили, собачьи дети! Жало застряло у меня между ребрами…
— Боже ты мой! Как же вы теперь? А медвежьего сала попить не пробовали?
— Вот видите, — сказал Збышко, — все советуют пить медвежье сало. Нам бы только доехать до Богданца! Сейчас же пойду на ночь с секирой под борть.
— Может, у Ягенки есть, а нет, так я у соседей спрошу.
— У какой Ягенки? Разве вашу не Малгохной звали? — спросил Мацько.
— Эх! Какая там Малгохна! Третья осень с Михайла пойдет, как Малгохна в могиле. Задорная была баба, царство ей небесное! Но Ягенка в мать уродилась, только что ещё молода…
…Вон уж видно горку нашу,
Дочка вышла вся в мамашу…
Гоп! Гоп!
…Говорил я Малгохне: не лезь на сосну, коль тебе пятьдесят годов. Какое там! Влезла. А сук под ней возьми и подломись, она и грянулась наземь! Скажу я вам, ямку выбила в земле, да через три дня Богу душу и отдала.
— Упокой, господи, её душу! — сказал Мацько. — Помню, помню… подбоченится, бывало, да начнет браниться, так слуги на сеновал прятались. Но хозяйка была замечательная! Значит, с сосны свалилась?.. Скажи пожалуйста!
— Свалилась, как шишка на зиму… Ох, и горевал я! После похорон так напился, что, верите, три дня не могли меня добудиться. Думали уж, что и я ноги протянул. А сколько я потом слез пролил — море! Но и Ягенка у меня хорошая хозяйка. Все сейчас у неё на руках.
— Я что-то плохо её помню. От горшка два вершка была, когда я уезжал. Под конем могла пройти, не достав до брюха. Эх, давно уж это было, сейчас она, верно, выросла.
— На святую Агнешку пятнадцать ей стукнуло; но я её тоже чуть не целый год не видал.
— Где же вы были? Откуда возвращаетесь?
— С войны. Какая мне нужда дома сидеть, коли у меня Ягенка?
Хоть Мацько и был болен, но, услышав о войне, насторожился и с любопытством спросил:
— Вы, может, были с князем Витовтом на Ворскле?
— Был! — весело ответил Зых из Згожелиц. — Только не дал ему Бог удачи: страшное поражение нанес нам Едигей. Сперва татары перестреляли нам коней. Татарин, он не пойдет врукопашную, как христианский рыцарь, а стреляет издали из лука. Нажмешь на него, а он убежит и опять из лука целится. Ну, что ты станешь с ним делать! А у нас, слышь, в войске рыцари всё силой своей похвалялись: «Мы, дескать, ни копий не склоним, ни мечей из ножен не выхватим, копытами эту нечисть растопчем!» Похвалялись это они, похвалялись, а тут как засвистят стрелы, инда все кругом потемнело! Кончилась битва, и что же? Из десяти едва один жив остался. Верите? Больше половины войска, семьдесят литовских и русских князей, осталось на поле боя, а уж бояр да всяких дворян, как они там зовутся, отроков[48], что ли, так и за две недели не счел бы.