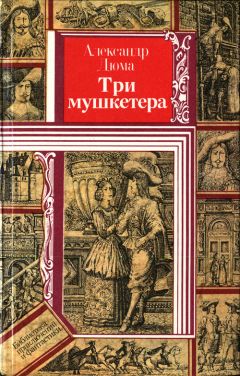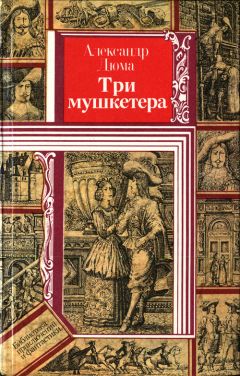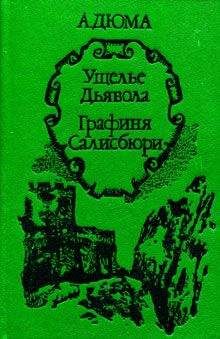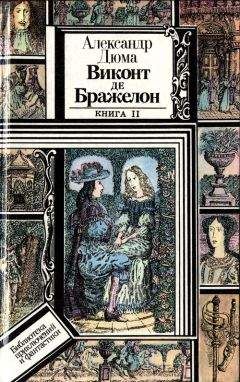Александр Дюма - Волчицы из Машкуля
Дойдя до двери, она увидела, как из дома Куртена выходил ее сын.
Когда она поняла, что с молодым человеком ничего не случилось, все ее страхи исчезли и ничто больше не сдерживало ее властный нрав.
А Мишель при виде матери от неожиданности отпрянул назад.
— Идите за мной, сударь, — произнесла баронесса, — по-моему, самое время возвращаться в замок.
Бедному юноше даже в голову не пришло спорить или спасаться бегством: он пошел за матерью послушно и безучастно, как маленький ребенок.
За всю дорогу баронесса и ее сын не обменялись ни словом.
По правде говоря, Мишеля молчание устраивало больше, чем объяснение, когда его сыновнее послушание, или, вернее, слабость характера, неизбежно привело бы к тому, что мать одержала верх.
Когда они подходили к замку, уже начало светать.
Все так же молча баронесса проводила молодого человека в его комнату.
Там он увидел накрытый стол.
— Вы, наверное, проголодались и устали, — сказала баронесса.
И она добавила, показывая на стол и на кровать:
— Вам надо поесть и выспаться.
Затем баронесса удалилась, закрыв за собой дверь.
Молодой человек с содроганием услышал, как ключ два раза повернулся в скважине замка.
Его лишили свободы.
Уничтоженный, он рухнул в кресло.
Такая лавина событий способна была сломить и более волевого человека, чем барон Мишель.
Впрочем, у него был только небольшой запас энергии, да и тот ушел на разговор с Куртеном.
Быть может, он не рассчитал своих сил, заявляя арендатору, что вернется в замок Суде.
Как заметила мать, он устал и проголодался.
На людей в возрасте Мишеля предъявляет свои права и другая строгая мать — природа.
Кроме того, его волнение несколько улеглось.
Раз баронесса, показав ему на стол и на кровать, сказала: «Вам надо поесть и выспаться» — это означало, что она не собиралась заходить к нему, пока он не сделает то, что она велела.
Таким образом, перед объяснением у него будет несколько часов отдыха.
Наскоро поев, Мишель проверил дверь и, убедившись в том, что его действительно заперли снаружи, улегся в постель и заснул.
Проснулся он около десяти часов утра.
Лучи ослепительного майского солнца осветили его комнату.
Он открыл окна.
На ветвях деревьев, покрытых молодой и нежной зеленой листвой, щебетали птицы, на газоне распускались первые розы, бабочки кружились в воздухе.
И казалось, что в такой чудесный день несчастье надежно упрятано под замок и не сможет никому причинить вреда.
Ликование природы, проснувшейся после долгого зимнего сна, прибавило бодрости молодому человеку, и он стал ждать прихода матери, уже не волнуясь.
Но время шло, часы уже пробили полдень, а баронесса все не появлялась.
Мишель с некоторой тревогой заметил, что еды на столе хватило не только на вчерашний ужин, но ее осталось и на сегодняшний завтрак и даже на обед.
Тогда он стал опасаться, как бы его затворничество не продлилось дольше, чем он думал.
Эти опасения усилились, когда пробило два, а затем и три часа.
Он напряженно прислушивался к любому шороху, и ему показалось, что ветер донес до него выстрелы со стороны Монтегю.
Создавалось впечатление, что стрелял взвод.
Однако невозможно было с полной уверенностью утверждать, что он действительно услышал выстрелы.
Монтегю находился более чем в двух льё от Ла-Ложери, а эти звуки были похожи на раскаты дальнего грома.
Но нет — небо было чистым.
Перестрелка продолжалась около часа; затем вновь наступила тишина.
Барона охватило такое беспокойство, что он — если не считать завтрака — совершенно забыл о еде.
Впрочем, он успел принять решение: когда наступит ночь и кругом все уснут, он вывинтит замок своей двери столовым ножом и выйдет, но не через вестибюль — входная дверь скорее всего тоже будет заперта, — а вылезет через какое-нибудь окно.
Надежда на бегство вернула узнику аппетит.
Он плотно пообедал, как человек, уверенный в том, что у него впереди бурная ночь, и набирающийся сил, чтобы выдержать превратности предстоящего пути.
Мишель окончил обед к семи часам; через час должно было стемнеть; он лег на кровать и стал ждать.
Он бы охотно поспал: сон помог бы ему скоротать время, но он был слишком взволнован. Напрасно он закрыл глаза; его слух был постоянно начеку и продолжал улавливать малейшие шорохи.
К его великому удивлению, мать не пришла в его комнату: он не видел ее с самого утра. Со своей стороны она должна была бы предположить, что с наступлением ночи пленник приложит все силы, чтобы сбежать.
Наверно, она что-то задумала, но что именно?
Внезапно молодому барону показалось, что он услышал звон бубенчиков, какие навешивают на хомут почтовой лошади.
Он подбежал к окну.
В сумерках можно было различить, что по дороге из Монтегю к замку Ла-Ложери с большой скоростью приближалось что-то темное.
К звону бубенчиков теперь уже примешивался стук копыт двух лошадей.
В это мгновение форейтор, скакавший на одной из двух лошадей, щелкнул кнутом, очевидно возвещая о своем прибытии.
Все стало на свои места: это прибыл форейтор с двумя почтовыми лошадьми.
В то же время молодой барон инстинктивно посмотрел во двор и увидел, как слуги выкатывают из каретного сарая дорожный экипаж его матери.
И тут его осенило.
Эти почтовые лошади из Монтегю, этот форейтор, щелкнувший кнутом, эта дорожная коляска, которую выкатывали из каретного сарая… Сомнений больше не было: мать решила уехать и забрать его с собой! Вот зачем она закрыла его и не выпускала из комнаты. Она придет за ним перед самым отъездом, посадит в коляску — и погоняй, кучер!
Она слишком хорошо знала силу своего влияния на молодого человека и была уверена, что он не посмеет ослушаться.
Мысль об этой зависимости, на какую так твердо рассчитывала мать, вывела молодого человека из себя именно потому, что он понимал, насколько правильны были эти расчеты: у него не оставалось сомнений в том, что, оказавшись лицом к лицу с баронессой, он не посмеет ей прекословить.
Но оставить Мари, отказаться от волнующей жизни, к которой его приобщили сестры Суде, не участвовать в драме, какую собираются возглавить в Вандее граф де Бонвиль и его таинственный спутник, — все это казалось ему невозможным, и более того — постыдным.
Что подумают о нем обе девушки?
Мишель решился пойти на все, лишь бы избежать подобного унижения.
Он подошел к окну, прикинул расстояние от подоконника до земли: оно составляло примерно тридцать футов.