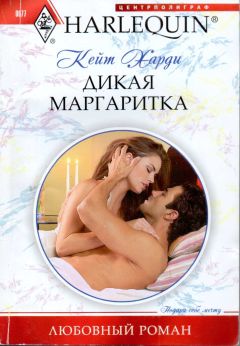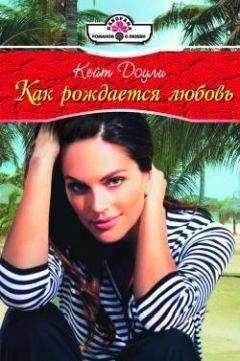Эдвард Уитмор - Синайский гобелен
Отче, я так ничего и не понял.
Конечно, не понял, но все так и есть, сказал старый священник; продолжая приплясывать, он обошел пекарню, взял из четырех стопок по одному хлебу каждой формы и сложил беглецу на колени.
Глава 9
Хадж Гарун
Они были слишком заняты, чтобы поверить человеку, который родился за тысячу лет до Христа. В голове которого, однако, роились факты, о коих никто доселе не слыхивал.
Как-то вечером, уже переехав в Дом героев Крымской войны, О'Салливан Бир гулял по Мусульманскому кварталу и забрел в тупик, оканчивавшийся глухой стеной. Неподалеку в дверях одиноко стоял иссохший старый араб. Он был одет в выцветшую желтую накидку и ржавый шлем, закрепленный для устойчивости зелеными лентами. Не заметив, что недалеко от него проходит человек, он задрал подол своей хламиды и пустил слабую струйку прямо на улицу.
О'Салливан Бир отпрыгнул в сторону. Старик едва держался на хилых ногах. При очередном движении тяжелый шлем сполз и с размаху уткнулся ему в переносицу. Он опустил подол, вздохнул, поправил шлем и устремил печальный взгляд куда-то в пространство перед собой.
Да, священник сказал правду, подумал Джо. Насчет Иерусалима он не ошибся, вот еще один увяз в другой трясине. Он шагнул назад и отдал честь.
Простите, сэр, не позволите узнать, с какой войны этот шлем?
Старик, застигнутый врасплох, сильно вздрогнул, и ржавеющий металл посыпался ему в глаза мелкой крошкой. Старик вытер слезы, и шлем съехал опять.
Что-что?
Вот этот шлем. С какой он войны?
Первый Крестовый поход.
Исусе, горячее, наверное, было дельце.
Старик понурил голову, словно ждал, что его вот-вот ударят. Он тихо заплакал.
Насмешки и унижения, брань и оскорбления, я уже ничего другого не жду.
О нет, сэр, я не хотел вас обидеть.
Взгляд араба скользнул в сторону О'Салливана, голос зазвучал чуть более слышно.
Что? Разве вы поверите, если я скажу, что я принимал участие в этой войне?
А почему бы и нет?
Правда? Но мне уже давно никто не верит, ни единому слову.
Очень жаль это слышать, сэр.
Две тысячи лет недоверия.
Я вам ужасно сочувствую.
Я ведь сражался не за крестоносцев, должен вам сознаться. Я защищал мой город от захватчиков.
Я знаю, каково это.
Так что, естественно, я бился на стороне проигравших. Когда защищаешь Иерусалим, всегда терпишь поражение.
И это я тоже могу понять, сэр. Ужасная несправедливость.
Старый араб попытался сосредоточить на нем взгляд.
Послушайте, почему вы называете меня «сэр»? Ко мне сотни лет никто не относился с уважением.
Потому что вы знатный человек, и так полагается.
Старик попытался распрямить согбенную артритом спину, и на несколько секунд это ему удалось. К удивлению и смущению на его лице добавились слабые проблески гордости.
Но это же было так давно, во времена правления Ашурнасирпала. Как вы догадались?
По глазам, сэр.
Это еще различимо?
Отчетливо, как голос последнего муэдзина.
Старик, казалось, еще больше удивился и даже застеснялся.
Не называйте меня сэром, мое имя Хадж Гарун. Но скажите, почему вы верите моим словам, вместо того чтобы побить за такие речи?
Что же мне еще делать? Вы узнаете эту форму? Я никогда особо в них не разбирался. Это настоящая форма армии Ее Величества времен кампании 1854 года, и хоть мне всего лишь двадцать лет, я ветеран той войны — видите медали? Вот эту, например, вручала мне лично королева Виктория, хотя мне едва исполнился год, когда она скончалась. Такие вот дела творятся у нас в Иерусалиме, я воевал в Крыму, вы сражались с крестоносцами, и я решил оказать вам уважение как ветеран ветерану.
Старик внимательно осмотрел Крест Виктории и улыбнулся.
Ведь ты пресвитер Иоанн,[11] не так ли? Я был уверен, что ты рано или поздно окажешься в Иерусалиме, и ждал тебя. Зайди, пожалуйста, поговорим.
Он скрылся в доме. Джо помедлил в нерешительности, но вечер был жаркий, а форма слишком плотная, в общем, он вошел. Первое, что он увидел, — бронзовые солнечные часы, встроенные в стену, большущие, литые, с витиеватыми украшениями. На них под самым потолком крепились куранты.
Из Багдада, сказал Хадж Гарун, перехватив его взгляд. Эпоха пятого калифа из рода Аббассидов. Я торговал антиквариатом до того, как посвятил себя защите Священного города и утратил все, чем владел.
Ясно.
Это были переносные солнечные часы.
Вижу.
Чудовищно тяжелые, но ему они, кажется, совсем не мешали. Он носил их на поясе.
Вот как. А о ком мы говорим?
Я не помню, как его звали. Однажды он снял у меня подсобку, хотел что-то написать, а это подарил мне в знак признательности.
Он снял комнату на один день?
Кажется, да, на один, но он очень много успел сделать. Потом он упаковал все свои бумаги и отправил их с караваном верблюдов в Яффу; оттуда караван перевезли на пароходе в Венецию.
В самом деле, почему бы и нет. В хорошую погоду что может быть естественнее, чем направить караван верблюдов в Венецию.
Куранты вдруг принялись бить. Они прозвонили двадцать четыре раза, помолчали, снова пробили двадцать четыре раза, а потом еще. Джо в замешательстве теребил свой Крест Виктории.
Исусе, так же нельзя.
Что нельзя?
Отзвонить вот так трое суток кряду.
Почему нельзя?
Ну нельзя, и все, время есть время. Время есть, беззаботно ответил Хадж Гарун. Солнце ведь не каждый день светит на гномон, бывают пасмурные дни, и часам приходится наверстывать.
Хадж Гарун отошел в сторонку и сел в ветхое парикмахерское кресло. У двери стояла небольшая соковыжималка, рядом валялся гнилой гранат. Возле кресла имелась буфетная стойка с бутылкой мутной воды, плевательница, старая зубная щетка с истершейся щетиной и пустой тюбик из-под чешской зубной пасты. Старик набрел на шаткое кресло, уныло обходя комнату.
Не вовремя я занялся зубочистным бизнесом. Мало кто заходит в этот тупик, да и чистка зубов после войны уж не та. До войны дела еще как-то шли, зубы у турецких солдат были в ужасном состоянии. Но когда они ушли, а пришли англичане, все пропало. У английских солдат зубы, конечно, не лучше, но они не дают их чистить арабу. Проклятые империалисты. И не хотят их чистить на людях. Туркам было все равно, но англичане не такие. Проклятые лицемеры.
С улицы донесся протяжный вопль. Хадж Гарун поглубже натянул шлем и закрылся руками. Через мгновение в лавку ворвалась толпа орущих людей, мужчин и женщин; они принялись носиться по дому, хватая все, что попало. Старик, стараясь сохранять достоинство, смотрел, не отрываясь, куда-то поверх их голов; через несколько секунд налетчики выскочили за дверь, унеся с собой все движимое имущество. Исчезли гранат и пресс, парикмахерское кресло со всеми принадлежностями, даже пустой тюбик из-под чешской зубной пасты. Хадж Гарун тихо застонал и прислонился к стенке, желтый, изнуренный и едва живой от голода.