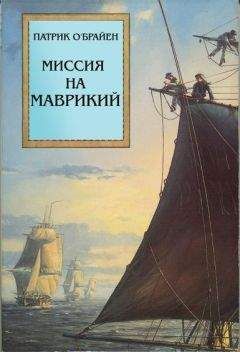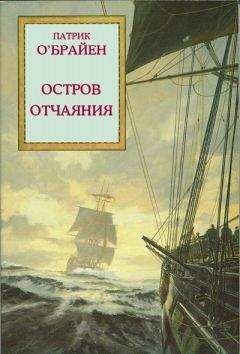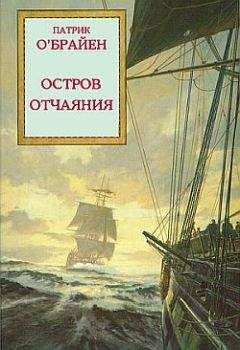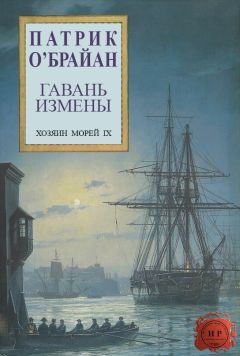Патрик О'Брайан - Военная фортуна
Шайка «веселых плотников» переместила его на наветренный борт, принявшись заделывать зияющий в палубе пролом, накрытый до того куском просмоленной парусины. Причем переместила вполне вежливо: «Поосторожнее ходите тут, сквайр — дыры такие, что фургон провалится». Дыр и правда было много — с самого выхода из Сан-Сальвадора корабль гудел от перестука молотков. Но к этому Стивен настолько уже привык, что этот новый всплеск прямо под ухом не прервал хода мыслей. Да, по-джентльменски. Ему вспомнилась трогательная забота, с которой янки проследили за тем, чтобы ни одна вещь из пожитков офицеров «Явы» не пропала или не была украдена. Перед мысленным взором возник высокий американский мичман с его дневником и кипой бумаг Джека под мышкой, спрашивающий у всех: «Чья эта черная книжка?». Мэтьюрин сохранил не только дневник и письменный прибор, но и все до единого носовые платки и пары чулок, поднесенными ему в подарок. Некоторые из дарителей были, увы, мертвы теперь, и остались в трех тысячах миль за кормой. Слово «дневник» заставило его нахмуриться, но бесконечная разбегающаяся кильватерная струя понесла прочь мысли, вернее, череду картин, и в пенной белизне он снова видел церемонию в Сан-Сальвадоре, во время которой командир американцев, коммодор Бэйнбридж, обратился к способным внимать ему пленникам. Если те, говорил он, дадут слово не выступать до законного размена против Соединенных Штатов, их прямо сейчас направят в Англию на двух картельных кораблях. Потом была церемония более частного порядка, на которой генерал Хислоп от себя лично и от всех уцелевших офицеров «Явы» преподнес коммодору превосходную шпагу в благодарность за доброту к пленникам. Доброту, распространившуюся не только на личные вещи, но даже на драгоценный губернаторский сервиз генерала, что особо подстегнуло красноречие Хислопа.
Дневник. Слово зацепилось за что-то в сознании, и Стивен остановился, чтобы осмыслить. В свое время у него выработались два опасных пристрастия. Первое — лауданум, бутилированная сила, напиток забвения, поначалу помогший ему перенести страшные переживания, связанные с Дианой Вильерс, но затем обратившийся в тиранического властелина. Второй привычкой было ведение дневника — безобидное, полезное даже занятие для большинства смертных, но крайне неразумное для агента секретной службы.
Естественно, большая записей была зашифрована его самолично разработанным тройным кодом, кодом таким сложным, что Стивен посрамил криптографов Адмиралтейства, дав им кусок текста на пробу. И все же дневник содержал сугубо личные заметки, для которых применялась упрощенная система, одна из тех, что пытливый ум, отягощенный знанием каталанского, вполне мог вскрыть, возьми он на себя труд покопаться. Труд получится напрасный с точки зрения военной разведки, поскольку заметки эти описывали лишь чувства Стивена к Диане Вильерс на протяжении минувших лет. И все же ему очень, очень не хотелось представать в наготе перед сторонним глазом, который увидит в нем отвергнутого и страдающего возлюбленного, нимфолепта, жестоко жаждущего обладать тем, что ему недоступно. Еще сильнее не хотелось Мэтьюрину, чтобы этот чужой прочел стихотворные его потуги, в самом лучшем случае тянувшие на разбавленного водой Катулла. Разбавленного сильно, хотя снедавший обоих огонь был одного свойства: nescio, sed fieri sentio et excrucior.[27]
На самом деле Стивен не очень страшился, что какая-нибудь важная часть окажется расшифрована, но все-таки разумнее было бы примотать к дневнику груз и швырнуть за борт, как поступил Чедз с заключенной в свинцовый переплет сигнальной книгой «Явы» или генерал Хислоп со своими бумагами. И хотя он безмерно ценил свою маленькую книжицу (помимо прочего, Мэтьюрин часто нуждался в компактной, но безошибочной искусственной памяти), но наверное, последовал бы их примеру, кабы не имел на руках семь неотложных ампутаций. Дурацкий просчет: секретный агент не должен держать при себе ничего, чему нельзя дать исчерпывающего объяснения или что способно навести на подозрение о шифре. Он не заявлял своих прав на дневник до прихода в Сан-Сальвадор, а когда сделал это, коммодор спросил, содержится ли в нем нечто, касающееся кодов или сигналов «Явы», либо исключительно сведения личного характера. Мистер Бэйнбридж сидел в большой каюте, явно страдая от раны в ноге, рядом находились мистер Эванс и некто в штатском. У Стивена создалось впечатление, что все трое американцев, выслушивая его заверения об исключительно личном, медицинском и философском содержании дневника, пристально на него смотрят.
— А что до этих документов? — поинтересовался Бэйнбридж, взяв один из листов.
— О, к ним я не имею ни малейшего отношения, — с облегчением ответил Стивен. — Думаю, стюард капитана Обри принес их. Вот та бумага очень смахивает на патент Джека.
Он пролистал дневник и продемонстрировал мистеру Эвансу несколько анатомических рисунков: пищевой тракт морского слона, занимающий целый разворот, яйцевод китовой птички, лишенная кожи ладонь человека, страдающего от кальциноза Palmar aponeurosis,эскизы вскрытия нескольких аборигенов.
Мистер Эванс пришел в восхищение; человек в штатском спросил:
— Позвольте полюбопытствовать, сэр: почему текст выглядит так, будто он искажен?
— Это личный дневник, сэр. Он подобен зеркалу, в котором человек обозревает самого себя: немногие из тех, кто без прикрас поверяет ему все слабости, готовы позволить прочитать о них другим людям. Врачебные заметки, записи о симптомах, болезнях и лечении с именами пациентов тоже следует хранить в тайне. Мистер Эванс поддержит, если я скажу, что секретность, полное неразглашение, суть одно из основных профессиональных наших требований.
— Это часть клятвы Гиппократа, — кивнул Эванс.
Стивен поклонился.
— И наконец, — продолжил он, — общеизвестно, насколько ревниво относятся естествоиспытатели к совершенным открытиям. Им необходимо быть первыми, кто поведает о них миру — слава человека, обнаружившего новый вид, манит ученого не меньше, чем призовые деньги капитана военного корабля.
Аргумент попал точно в цель, и коммодор протянул ему книжицу. Создавалось, однако, впечатление, что штатского не удалось окончательно убедить. Кто же это такой? Консул? Его не представили, и причины присутствия не объяснили.
— Насколько я понимаю, сэр, — заговорил американец, — вы принадлежите к экипажу «Леопарда»?
— Верно, сэр, — отозвался Стивен. — И именно на его борту сделана была большая часть моих открытий, как и эти рисунки.
Он получил свой дневник назад. Но хотя все обошлось, у Стивена возникло некое предосудительное по отношению к старому другу чувство, и он не спешил поверять бумаге глубинные свои чувства, как поступал многие годы до того. За исключением описания нескольких встреченных птиц, единственная сделанная пару дней назад запись гласила: «Теперь я знаю, как будет выглядеть Джек Обри в шестьдесят пять».