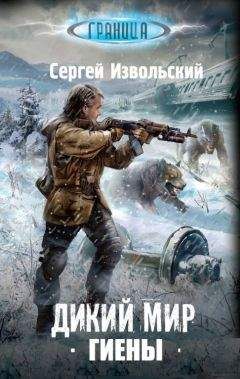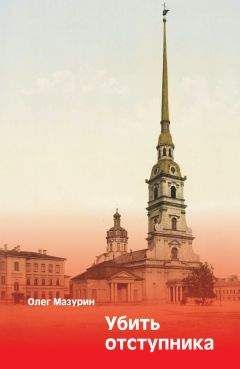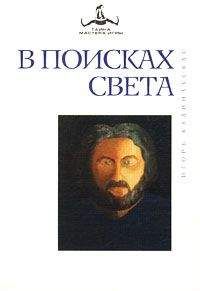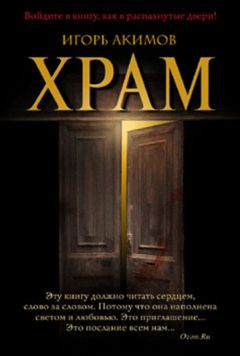Игорь Лощилов - Батарея держит редут
Время от времени Паскевич делал инспекторские набеги на военные гарнизоны, в числе первых оказалась многострадальная Шуша. Крепость предстала перед ним в самом удручающем виде, она была уже не пригодной ни для жилья, ни для обороны. Как умудрились остатки 42-го полка поддерживать ее боеспособность, приходилось только удивляться. Но ведь поддерживали!
По случаю прибытия высокого начальства полковник Реут вознамерился устроить торжественное построение полка, но незадолго перед тем прибывший Болдин уговорил его не делать этого. Он уже успел узнать нрав нового командующего и его требования к строгому соблюдению формы одежды, нарушение которой могло перечеркнуть боевые заслуги защитников крепости. Пришлось усилить караулы и организовать новые лазареты, куда поместить всех страждущих и легко раненных. После этого выставлять на торжественное построение оказалось некого.
Паскевич живо интересовался подробностями обороны крепости. Казалось неправдоподобным, чтобы малочисленный гарнизон мог так долго противостоять натиску двадцатикратно превосходящего врага. Верный своей недоверчивости, он потребовал предоставить ему всю боевую переписку и, ознакомившись с ней, объявил, что героизм защитников крепости достоин милостивого монаршего воззрения, о чем Паскевич лично доложит государю. На этом он, однако, не успокоился и заинтересовался другим: известно, что на Кавказе десять лет ожидали войны с Персией, почему же единственная русская крепость в пограничном Карабахе оказалась в таком жалком положении? Кто отвечал за боеготовность и снабжение войск? Всплыло имя Мадатова и то, как трудился 42-й полк по обустройству его имения вместо того, чтобы укреплять крепость и заниматься боевой подготовкой. Реут пытался как-то оправдать своего приятеля, говорил о его храбрости и умении находить общий язык с местными правителями, что обеспечило устойчивый мир в этом пограничном регионе, но Паскевич не хотел ничего слушать. За храбрость, говорил он, Мадатов удостоен награды, за дипломатию представлен к новому чину, а за казнокрадство придется ответить – suum suique.[4]
Вскоре к Реуту был направлен Иван Курганов. Он, ссылаясь на требование Паскевича, попросил предоставить ему сведения о том, как довольствовался полк и куда шли казенные деньги. Послушал его Реут и, кликнув денщика Алешку, приказал разобраться с назойливым армянином. Если, добавил, слов не хватит, объясни руками. Алешка был литовцем, по-русски говорил скверно, гораздо хуже, чем руками. На долгое разбирательство его не хватило, и Курганов во избежание рекомендованных объяснений быстро убрался восвояси. Паскевич, конечно, возмутился, как обошлись с его посланцем, потребовал Реута и стал ему выговаривать. А тот с достоинством сказал, что всю жизнь прослужил на Кавказе, новых правил не знает, а старые не позволяли давать отчет каким-то проходимцам. О том же говорили и древние правила: par pari...[5]
Паскевич был вынужден скрыть досаду, ссора с Реутом не входила в его планы. В докладах на высочайшее имя он превозносил храбрость защитников крепости, оставленных один на один перед лицом вражеской армии, что бросало тень и на самого главнокомандующего. Развенчивать созданный героический образ не следовало, и Паскевич снисходительно отнесся к проявленному своеволию. Дело, однако, этим не закончилось.
Мелочные придирки, строевые смотры и постоянные замечания Паскевича относительного внешнего вида солдат вызвали недовольство офицеров, особенно старых кавказских служак. Во время боевых действий они достигали успехов, полагаясь на свое умение и опыт, там их никто не наставлял, тут же постоянно чувствовали себя виновными в каких-то упущениях. Армия – своеобразный организм: поставь солдат в тяжелейшие условия, но ободри ласковым словом, они тебе горы свернут, а помести в теплицу и начни шпынять по пустякам, беды не оберешься. Между офицерами стали ходить разные насмешки, в ход пошли анекдоты и эпиграммы. Знающие люди говорят, что это самое последнее дело, ибо устои колеблются не от грома, а от шепотков. Особый успех выпал на долю Болдина, прочитавшего на офицерской пирушке стишок по поводу того, как устроил Иван Курганов проверку расходования казенных средств, выделенных 42-му полку. Вспомним, что Реут, не желая отчитываться перед этим проходимцем, послал его к своему ординарцу.
Иван к Алексею явился,
Отчета спросил за пять лет,
Скажи, как казной распорядился,
Не в ней ли причина побед?
Не меряют доблесть на тыщи,
Ценить не способны они...
Взмахнул Алексей кулачищем —
Живой? Вот теперь оцени!
Имена героев совпадали с высокими лицами, и то, как Иван был посрамлен Алексеем, очень понравилось офицерам. Стишок стал гулять по офицерским компаниям и добрался, по-видимому, до самого верха. Приехал как-то Паскевич в крепость и выказал особую придирчивость по части восстановительных работ, порядка в казармах и строевой подготовки. С ехидцей посочувствовал: можно ли с солдатиков требовать положенной службы, когда они все время батрачили на генеральском поместье? Затем поинтересовался у Реута, чем заняты офицеры, ответом не удовлетворился и брюзгливо заметил: вы-де с них построже спрашивайте и делом занимайте, чтобы поменьше на пирушках сидели и пасквильными стишками баловались. Ну, понятно, и до него дошло.
Реут как раз формировал команду для доставки из Тифлиса оружия, боеприпасов и денег на восстановительные работы. Решил он рассеять тучи, нависшие над Мадатовым и поручиком, к которому с некоторых пор чувствовал особое расположение. Написал письмо Ермолову, в котором просил заступиться за боевого друга, лишившегося в результате войны своего имения и подвергающегося ныне мелочным придиркам. Затем приказал Болдину пристать к этой команде и вручил ему письмо, потребовав, чтобы оно было передано лично главнокомандующему.
Павел обрадовался поручению, дорога, хоть и трудна, а все же лучше тоскливого пребывания в полуразрушенной крепости. Но главное – появилась надежда увидеть боевую подругу, дочери Реут тоже написал письмо.
Выступили на другой день, путь предстоял нелегкий, приходилось бороться со многими препятствиями, идти по едва заметным тропам, извивавшимися над пропастями. Один неосторожный шаг – и лошадь летела в кручу. Люди, одетые по-летнему, встречались и с осенью, и с зимой. Особенно запомнилась первая походная ночь. В непроглядной тьме ничего нельзя было разглядеть, лишь раздавались тяжелый сап и топот лошадей, людской говор, лязг оружия и где-то далеко внизу рев клокочущего горного потока. А сверху все сыпал не то дождь, не то снег. Временами сверкающая молния на мгновение озаряла уходящий в облака крутой косогор, вереницу всадников и сбоку – бездонную пропасть. В ушах Болдина еще долгое время звучали из ночного мрака голоса товарищей.