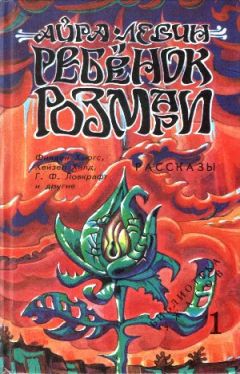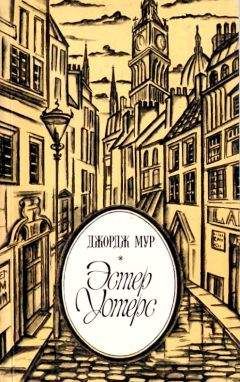Эдуард Кондратов - Операция «Степь»
— Почему не уйдешь? Гаюсова можно отвлечь. Ножом ткнуть…
Глеб встал, накинул на плечи злополучную шубу.
— Я иду к Серову, — сказал он спокойно, но Байжан уловил: волнуется. — Предложу ему отпустить меня для секретных переговоров с Уваровым, а может, даже и с самим замкомандующим Артеменко. По проводам у них беседы зашли в тупик, так что я предложу Серову использовать свой последний шанс.
Брякнула кочерга, задетая ногой вскочившего Байжана.
— Он тебя пристрелит, — угрюмо сказал он.
— Если продолжатся бои, погибнут сотни людей.
— Хорошо, Глеб. Ты великий джигит, я знаю. Ты еще раз докажешь это. Только боюсь, что в самый последний раз.
— Через два часа встретимся, — сказал Глеб, взглянув на резные ходики. — Будь наготове. Я зайду в дом Серова, ты понаблюдай. А выводы из того, что станет дальше, сам сделаешь.
— Ай, зря… — вздохнул Байжан.
…Василий Серов не пошел ни на киргизскую конференцию, ни на скачки. Он пил с утра и не подпускал к себе никого, кроме новой своей возлюбленной Лельки Музыкантской. Клавдию, которую он возил за собой еще с мая, отпустил, когда покидали Гурьеве кий тракт. Умоляла, ползала на коленях, слезами омыла сапоги… Если б не надоела… Но появилась Лелька — озорная, круглолицая, пухлогубая, с карими, чуть навыкате глазами. Клавка была дура дурой, глядела Васечке в рот, а эта — фельдшерица, язык остер: передразнит кого — не удержишься от хохота. Когда стала атаманшей, потребовала коньяку и шампанского, а стаканы с самогонкой с размаху швыряла о стенку, об пол, куда рука повела. Но весела, а целуется так, что голова кругом идет у Василия Серова. Такая не наскучит и за год, хоть с ней и беспокойно. Хорошо, что умна — в дела нос не сует, советы по ночам не нашептывает. Хотя и чует Серов: недовольна Лелька-Лизавета уильским заплесневением. Женщинам ненавистна неопределенность.
Адъютант командующего Иван Скворцов не выносил Лельку. За барские замашки. Попробуй, найди ей в киргизских степях коньяков, а тем паче — шампанского! Выручали сундуки богатых киргизов, только на людях не пьющих или сберегавших дорогие напитки для важных русских гостей. Так мало того: Лелька требовала кружевного белья, не хуже, чем у бывших дворянок, атласных и тонкой шерсти платьев, бархатных жакетов, меховых ротонд. В семнадцатом-восемнадцатом годах было бы проще: помещичьи усадьбы того и ждали, чтоб их пошерстили вольные люди. А ныне, в голодном году, тряпье только с базара и чаще заношенное до лоска. Приходилось сбивать замочки с сундуков у казаков — у тех, кто воротил нос от мобилизации в серовское войско. Грабеж, конечно. Но с Лелькой не поспоришь…
— У себя? — спросил Глеб у Скворцова, с остервенением чистившего двор от снега деревянной лопатой.
— С кралей. — Иван с удовольствием оторвался от работы. — Дай махорочки-то. Лучше не ходи, может пульнуть. Хлещут, а никак не спьянеют — оба один к одному. Потом захотят на тройке гонять по Уилу… — Он смачно запыхтел самосадом. — Ну и жизнь, пропади она пропадом!.. Не ходи!
— Надо, Иван, надо.
Глеб решительно взбежал на крыльцо. В сенях воняло рассолом, на полу валялись раздавленные луковицы, осколки битых бутылок.
Иной дух — спертый, настоенный на спиртовых парах и застоявшемся табачном дыме — ударил в ноздри, когда он открыл дверь из сеней в комнату. Большой стол в горнице был задвинут в угол. На неприбранной постели сидел Василий Серов в полосатой рубахе, ярко-синих галифе и белых шерстяных носках. Перед кроватью стояли две сдвинутые вместе лавки, уставленные снедью и бутылками. Среди них генералом с ободранными позументами высилось шампанское.
Серов был красен, в щегольских усах блестели капли, влажный чуб разметался по лбу. Он взглянул на Глеба безо всякого выражения: ни удивления, ни вопроса не отразилось в его серо-зеленых, в темных полукружьях, глазах.
— Кто там, Василек? — послышался из-за его спины густой женский голос. Опершись на руку, на Глеба сонно смотрела пьяная Лелька Музыкантская. Ночная рубашка свалилась с плеча, заголив круглую грудь, но она и не подумала поддернуть: уставилась на Глеба и ждала. Ну что, мол, дальше?
Две пары глаз проследили, как Глеб браво козырнул и, не спрашивая разрешения, поставил валявшийся стул и сел на приличном, впрочем, расстоянии от постели и лавок.
— Как понимать? — невнятно пробормотал командующий и икнул.
— Разговаривать всерьез в состоянии? — без обиняков спросил Ильин-Рудяков.
— Он же хамит! — обиженно заявила Лелька и наконец прихватила рукой рубашку у шеи.
— Говори, зачем пришел, — буркнул Серов, и Глеб заметил, что в сузившихся глазах бандитского атамана промелькнула настороженность. Нет, Василий Серов сколько ни выпьет, рассудка не теряет, это было известно всем.
— Василий Алексеевич, мне стало известно, что ты решил поставить крест на переговорах с Уваровым.
— Откуда известно?
— Разве это важно? Важен факт срыва переговоров о сдаче. Ты знаешь, чем он обернется в ближайшие недели? Опять в степь, и это в феврале!
— Кто ты такой, чтоб пугать меня, Серова? — зубы стиснуты, и следа хмеля нет в глазах.
— Я единственный человек в Уиле, с которым тебе стоит поговорить начистоту.
— Начистоту? Ишь… — Серов бросил исподлобья испытующий взгляд на Глеба. — Попробуем. Сначала выпьем.
Он взял с лавки полупустую коньячную бутылку, понюхал, отодвинул. Нагнувшись, достал из-под лавки бутылищу «Смирновской» еще дореволюционного разлива. Сорвал пробку, забулькал в нечистые стаканы. Глебу налил до краев, себе — на три четверти. Крякнул и долил.
— Шашлык остыл… Лучше балыком, — подала голос Лелька. Не стесняясь своего неглиже, прямо из кровати она подсовывала им закуски. — Огурцы отменные, с перчиком, дерут.
Выпили. Серов — судорожно, крупными глотками. Зажмурился, придавил плечом рот и только потом потянулся к огурчику. Глеб выпил ровными глотками. Он знал, что если не вдохнет ненароком смрад, одолеет до донышка.
— Силен, американец! Балыком, балыком — лучше всего… Аж тает!
Под шумок пропустила глоток шампанского прямо из бутылки и Лизавета. Охнула блаженно и шлепнулась спиной на подушки.
— Теперь давай начистоту.
Странно, но от выпитого глаза у Серова словно бы освежели. Смотрели внимательно, остро. Подозрительность пряталась где-то совсем-совсем в глубине.
— Прежде всего, что я думаю о тебе, Василий Серов. Только не перебивай, прошу. Тебе совсем не нужна эта война. Кулак бьется за отобранное, казачий урядник — за царские льготы. Ты, герой Гражданской войны, храбрец, бедняк, бывший коммунист, всю кровь свою готов был отдать за других. За общее дело пролетариата ты пошел воевать, не так разве? Никого не боялся. А вот как свихнулся с Сапожковым, стал трусить, назад повернуть боишься. Да, Серов, ты трус!