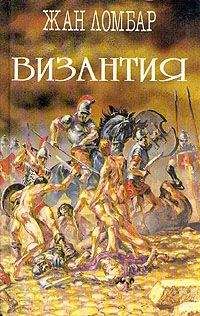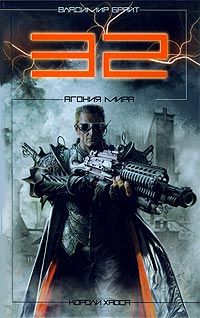Жан Ломбар - Агония
Теперь чужестранцы молчали. Пораженные, они торопились исчезнуть, близко чувствуя мечи преторианцев. Элагабал в это время беспечным жестом приказал убрать свою жертву.
Таким запомнили Элагабала брундузийцы, а с ними и Аспренас, огромный красный глаз которого, похожий на вечернее солнце, все это время, не мигая, смотрел на Императора.
XX
Чужестранцы шли к выходу через ряд покоев, на стенах которых были написаны бесстыдные картины: спаривавшиеся животные; приапы на пьедесталах и отдающиеся им девы под мрачным взглядом матрон; на красном фоне нагие женщины среди неистовых обезьян; побежденные борцы, насилуемые победителями; а среди колонн, соединенных гирляндами, серебряные фаллосы, растущие на кустах, подобных водорослям. Иногда в глубине зал открывались залитые солнцем дворы, и белые портики шли рядами; внезапно открывались золотистые сады, но когда они хотели войти туда, перед ними вырастали преторианцы с обнаженными мечами. Теперь их пугал все усиливающийся рев львов; казалось, их выпустили на свободу, и они били по полу своими могучими хвостами; чужестранцам мнилось, что они идут теперь навстречу зверям, как будто Элагабал обрек их на съедение. И в тупых головах вспоминались рассказы о людях, брошенных на растерзание львам во время пиров Императора. Все дрожали: приятели жались друг к другу, те, кто никогда не разговаривали между собой, стали объясняться на незнакомых языках, англ обнимал скифа, ибериец крепко пожимал руку кельту, египтянин целовал нубийца; иные уже взывали к родным Богам. Рев зверей приближался. Вдруг сильный свет ударил в глаза, и первые, вступившие в пустую залу ясно увидели перед собой дюжину львов на свободе, которые стали в ряд, точно дрессированные лошади, и начали рычать.
Тогда поднялся страшный крик. Преторианцы сзади ударяли людей плоской стороной мечей, даже кололи остриями наиболее упорствующих, боковые бронзовые двери закрывались с жалобным визгом: задние толкали передних, которые, спотыкаясь, падали на землю, но тотчас же вновь подымались и, бледные, с мольбой, становились на колени и целовали землю, а их давили наступавшие сзади; львы били себя хвостами по бокам и вздрагивали, точно большие собаки.
Зала все больше наполнялась людьми, но львы не кидались на них, сами испуганные этим тысячеголосым криком, и только ревели, раскрывая ужасные пасти и царапая пол задними лапами. Наконец, их оттеснил живой поток чужестранцев. Потит и Туберо, в первом ряду, почувствовали близость зверинх морд и легкое прикосновение гривы. Некоторые испытали тяжесть лапы на похолодевшей шее.
Внезапно, под напором толпы, линия львов разорвалась. И тогда, к удивлению всех, животные бесшумно скрылись в дверях по знаку черных рабов, появившихся с железными крючковатыми палками.
И в зале остались только ошеломленные чужестранцы – они поднимались с пола, расправляя члены, отирали пот и поздравляли друг друга.
XXI
В комнату, где брундузийцы подслушали Маммею и Мезу, вошла Сэмиас. Небрежная, в разметавшейся столе, с колеблющимися грудями под златотканной субукулой, едва придерживаемой застежками из топазов, с распустившимися сандалиями из белого войлока на обвязанных пересцелисом ногах, – она села на ложе и рассеянно посмотрела на расставленные на полу склянки и чаши, на опрокинутую бронзовую мебель и беспорядок в ее комнате, обличавшей чье-то вторжение. Она подумала, что это, очевидно, сестра ее, Маммеа, хотела убить ее и ее сына Антонина, и пришла в ужас от этого неслыханного замысла. Питая слепую привязанность к сыну, она была готова на все, и безмерная страстность ее материнского чувства скрывала от нее то, что замышляли другие. Она наивно верила в покорное преклонение всей земли перед ней и им и, всевластная, в своем ослеплении не замечала ни ненависти, ни надежд, ни кровавых слез, ни горестей, ни заговоров, – опасности, ежеминутно угрожавшей ей и ее сыну.
Прием чужестранцев продолжался, и доносившийся до нее шум не возвещал никакой опасности. Вокруг не было ничего примечательного, поэтому Сэмиас ничем не могла объяснить беспорядок в комнате. Она прошла в покои Мезы и Маммеи, но они тоже были пусты. Сэмиас в нерешительности направилась в гинекей.
Празднества перевернули в нем вверх дном весь порядок: рабы бродили по кубикулам; женщины разбежались кто куда; патрицианки забавлялись с приближенными императора; в закоулках Дворца девственницы, обнимаясь, лобзали одна другую. Бесконечная похоть без удержу разлилась повсюду.
Покои Сэмиас были расположены в одном из крыльев Дворца, среди садов, где из голубых вод бассейнов под взоры статуй поднимались нимфеи. Она шла все дальше, и шум удалялся от нее. Одни только черные евнухи в митрах из кожи пантеры, с окрашенными киноварью веками бродили по гинекею, падая ниц на ее пути. Она думала про Атиллию, самую любимую из окружавших ее девственниц, сестру Атиллия, молчаливого, таинственного, ярого служителя Черного Камня; никто еще не смог его смягчить, его, вдохновлявшего Антонина и поклявшегося ненавидеть женщин, потому что он не принадлежал еще ни одной; и этого вольноотпущенника Мадеха, нарумяненного и надушенного, бывшего всегда при нем, как тень, стройная, тонкая и изящная!.. И в ней-пробуждалась ревность женщины к этой другой любви, ревность, вызванная прежним чувством, которое угадывала Меза. Много лет она знала Атиллия, который восхищал ее в Эмессе, облеченный в пурпурные одежды; и она еще тогда старалась проникнуть в тайны его жизни с вольноотпущенником, в расцвет его грез, плодом которых явилась идея поклонения Жизни и живому Божеству, из плоти и крови, в лице ее сына Антонина Элагабала; он, будучи андрогином, подобно Первичной Силе, должен был отдавать свое тело всем, мужчинам и женщинам, ради туманной и необъяснимой тайны творения. И культ этого Бога, который был ее сыном, в пятнадцать лет избранным в императоры, этот культ, разлившийся по земле с невероятной быстротой, должен был вытеснить все другие, потому что он был человечен, потому что давал простор страстям, потому что давал широкое толкование философии и религии. Таким путем Атиллий приобрел огромную власть над нею, Сэмиас, и эта власть еще более возрастала, благодаря его воздержанию в отношениях со всеми женщинами. Он отвергал всех, кто хотел оторвать его от Мадеха! Что же это был за человек, который из всех соблазнов Империи избрал только один и сохранил при этом холодную трезвость мысли главы религии, защищающего обряд и созидающего культ, чуждый общим верованиям и кажущийся сверхчеловеческим?
Конечно, его мысль, туманная для всех, была ясна ей, Сэмиас, потому что каждое действие Элагабала, посвященное торжеству Черного Камня, было вдохновлено Атиллием, которого она видела на тайных совещаниях, где сама присутствовала для одобрения его действий. Ему был обязан Рим похищением Священных Щитов, Огня Весты и Палладиума. Ему был обязан Рим и тем, что город превратился во всемирный лупанар, где женщина отдавалась мужчине, ставшему андрогином; и при этом ни женщина, ни мужчина, которые навсегда бы могли проникнуться отвращением к акту любви, не сознавали этого всеобщего переворота. Атиллию же Рим был обязан и зрелищем бракосочетания Луны и Солнца, то есть двух форм жизни, отныне слитых, как он хотел бы слить и оба пола. Как велик этот Восток, полный Солнца и золота, пахучих цветов, пышных религий, необъятных наслаждений! Восток, отразившийся в душе Атиллия, более победоносного, чем Цезарь, заставившего землю преклониться пред одним Божеством, но живым – ее сыном Элагабалом Антониной, основателем блистательной грядущей – и последней для человечества, – династии Императоров Черного Камня.