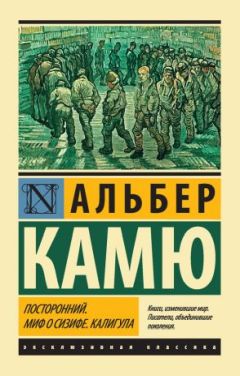Альбер Бланкэ - Война амазонок
Мансо жили в доме, имевшем на улицу одно окно. Высокая крыша этого дома поднималась над улицей Потри, недалеко от рынка Невинных. В зале нижнего жилья семья завтракала, обедала, тут же производились работы, которыми распоряжалась Маргарита. Через эту залу надо было непременно проходить, чтобы переносить каждый вечер на небольшой дворик остатки товаров, которые нельзя было оставлять на ночь на рынке.
В тот день, против обыкновения, с тех пор, как королева-мать и кардинал Мазарини отдалили от себя сердца народа и буржуазии, не били в барабаны на парижских улицах. После ареста принца Кондэ и изгнания герцогини де-Лонгвилль мир между различными партиями, который так долго готовили к подписанию, обещал наконец сменить уличные волнения. Все интересовались друг у друга новостями.
Освобождены ли принцы? Восторжествует ли парламент? Окончательно ли отослан Мазарини, а принцы освобождены? Герцогиня де-Лонгвилль, де-Бофор, Д'Эльбеф и другие будут ли иметь власть? Это был всеобщий вопрос, с тех давних пор, как началась междоусобная война. С этим вопросом парижане просыпались каждое утро.
Госпожа Мансо воротилась с рынка, ее муж принес на спине в гигантской корзине много провизии, которую надо было убрать. Стало уже так темно, что Маргарита вынуждена была зажечь лампу. Госпожа Мансо казалась не в духе. Старшина, освободившись от своей ноши, нежно поцеловал Маргариту, потом опять взял корзину своими сильными руками, перенес ее на двор и повесил на толстый крюк, нарочно устроенный для этого.
– Я не продала и на шесть ливров сегодня, – сказала мать, садясь и складывая руки на колени, – а у меня на целый пистоль зелени, которая завтра не годится даже свиньям.
– Ба! – сказал гигант, пожимая плечами.
– Этому все причиной Мазарини.
– Он или другие.
– Он! Он один! – сказала госпожа Мансо, и глаза ее вдруг засверкали.
– Мама, – осмелилась сказать Маргарита кротким голосом, – сегодня на улице говорили…
– Что говорили? – спросила госпожа Мансо, которая, терзая мужа, всегда смягчалась к дочери.
– Что скорее принцы – причина наших неприятностей и что лучше бы их оставить в тюрьме.
– Клевета! – сказала госпожа Мансо, вставая с негодованием и подходя к мужу, сжав кулаки.– Это такие люди, как ты, мосье Мансо, повторяют эту ложь. Если бы вы не были такими трусами, мы скоро прогнали бы метлами этого итальянца на его родину.
– Милая моя… – попытался умиротворить ее синдик.
– Молчи, ты говоришь только глупости.
– Мама, – сказала Маргарита.
– Ну! Что еще?
– Уверяю вас, что Жолье, угловой лавочник, имеющий голос в ратуше, переменил мнение насчет кардинала.
– Это флюгер. А я слышала однажды, как твой Жолье предлагал прицепить его к своей вывеске.
– Он говорит, что это великий министр, и мой кузен Ренэ считает так же, – прибавила Маргарита.
– Ренэ дурак.
– Где он сегодня? – с участием спросил Жак.
– Папа, ты же знаешь, что коадъютор расположен к нему. Он прислал за ним.
– Возможно ли? Такой человек? – сказала госпожа Мансо. – Надеюсь, что Ренэ воротился, вылечившись от своего восторга к Мазарини.
– Он говорит, что коадъютор, хотя и ненавидит кардинала, имеет о нем такое же мнение.
– Ну! Да, это хитрец! Но также и плут, обманывающий всех. Он обманет принцев и весь парламент, если мы допустим это. К счастью, рынки не дремлют.
Носильщик пожал плечами.
– Да, рынки и де-Бофор также. И я надеюсь, что ты пойдешь вместе с нами.
– Надо будет.
– Право, Мансо, я удивляюсь тебе, будто ты ничего не чувствуешь! Разве не ты ударом плеча опрокинул карету, которая везла Брусселя в Бастилию?
– Ну да.
– С того дня Мазарини и Комминг стали твоими врагами: стало быть, ты фрондер.
– А! – отвечал синдик, показав ряд зубов, белых и крепких, способных раскусить кремень.
– Только осмелься утверждать противное.
– Я ничего не буду утверждать.
– Послушать тебя, так подумаешь, что ты за Мазарини, как Маргарита, которая…
– Мама, вы знаете, что я ни за кого, разве только за то, чтобы все было спокойно, чтобы ваши дела шли хорошо и чтобы вы не портили себе кровь, горячась за людей, которые насмехаются над вами за глаза.
– Никогда этому не поверю!
– Вспомните, что вам сказала герцогиня де-Лонгвилль в тот день, когда я ходила поздравлять ее с именинами вместе с вами.
– Твоя прелестная и добрая крестная мать! Вот женщина, которой следовало бы быть королевой Франции и Навары!
– Она вам сказала, я помню, как будто это было вчера: «Моя добрая Мансо, делу, которому я служу, нужны все; но так как во всяком деле нужны жертвы, я была бы в отчаянии, если бы вы оказались в числе жертв. Оставайтесь спокойно дома, когда бьет барабан. Подумайте, что у вас есть честный муж и дочь, которые нежно любят вас и которых ничто не утешит в вашей потере».
При этих словах, сказанных простым и нежно-убедительным голосом, носильщик поднес к глазам руку, а госпожа Мансо вынуждена была вынуть носовой платок, чтобы отереть крупные слезы, вдруг омочившие ее лицо. Маргарита подошла к матери и нежно поцеловала ее. Вдруг какая-то женщина быстро вошла с улицы, заперла за собой дверь, бросилась к лампе и задула ее.
– Кто тут? – повелительно спросила госпожа Мансо, между тем как ее муж вставал, грозно подняв кулаки.
– Это ты, Ренэ? – спросила Маргарита, не разглядевшая женского платья вошедшей.
– Кто там? – в свою очередь, спросил хозяин грозным голосом.
– Это я, не бойтесь ничего, друзья мои.
– Кто вы?
– Герцогиня де-Лонгвилль.
– А! – воскликнули сразу три голоса с величайшим удивлением и участием.
– Мансо, посмотрите, не гонятся ли за мной, но будьте осторожны.
Жак отворил дверь, между тем как три женщины прошли во двор. Скрестив руки и глядя на проходящих, Жак спокойно прислонился к столбу. К лавке подошел человек и, не останавливаясь, быстро заглянул в открытую дверь.
– Разве у нас сегодня не зажигают огня?! – вскричал Мансо, возвращаясь в комнату.
Взяв кремень и огниво, он начал высекать огонь, нарочно бросая тысячу искр, и ему показалось, что тот же самый человек опять появился против двери, остановился на секунду и продолжил свой путь.
Мансо зажег лампу, спокойно сошел с двух ступеней, защищавших порог его дома от парижской грязи, и приставил ставень к стеклянной двери, что он делал каждый вечер; потом закрыл ставнями оба окна. Он не смел пойти к женщинам, но дочь позвала его. Жак поднялся на верхний этаж и очутился в темноте. Три женщины разговаривали у кроватки маленькой Марии.