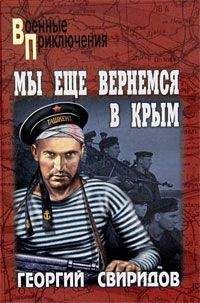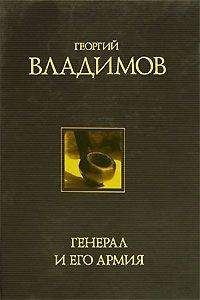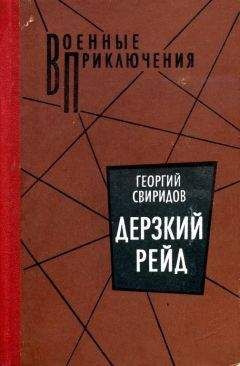Георгий Свиридов - Летом сорок первого
После проводов отца в армию она чуть ли не каждую ночь надрывно всхлипывала на своей постели, и у Бориса, который спал в простенке за шифоньером, в той же комнате, нудно ныло под сердцем и жалость к матери заливала все его существо. И сейчас, чтобы как-то ее успокоить, он вынужден был признаться, что его мобилизовали не на фронт, не в действующую армию, а в отдельную спецгруппу, в которую брали только электриков и шоферов, хотя в душе верил совсем в другое.
– Там только одни электрики и шофера, – повторил он, шепча ей на ухо свой секрет. – Это же лучше, сама понимаешь.
Он настоял, чтоб его не провожали. Мать лишь поохала, что на дорогу-то сыну почти ничего нету, а бегать покупать некуда, близкий Сухаревский рынок строгие власти закрыли, и милиция не допускала никакой торговли с рук и лотков...
– Да я в магазине куплю, не беспокойся, мама, – сказал Борис, отдавая ей полученную заработную плату и выданные вперед увольнительные. Себе он оставил несколько рублей.
– И чего ж ты накупишь? Опять сухой колбасы?
– Почему одной колбасы? – улыбнулся Борис, чувствуя свою самостоятельность. – Сахару пиленого возьму пачку и конфет. Ну и печенья, конечно.
– Горюшко ты мое луковое, старшой ты мой ненаглядный... Да в путь-дорогу, окромя колбасы и сахару, еще надо брать хлебушка, да рыбки копченой, да огурчиков, соли щепотку... В дороге-то дальней питаться надо, а не сластиться.
– Какая ж тут тебе дальняя дорога, когда в повестке написано просто и ясно: еды взять на двое суток, – веско и со знанием дела произнес Борис. – Двое суток всего, мам...
Мать все же вышла провожать. Соседи по квартире, по двору главным образом пожилые женщины – день-то рабочий! – пожимали Борису руки, горестно вздыхали, сочувствовали матери, высказывали Борису пожелания вернуться домой живым и здоровым и со скорою победой.
На углу Сретенки и Малого Сухаревского они простились.
Борис окинул взглядом родной переулок, который ничуть не отличался от другого, расположенного по ту сторону Сретенки, но почему-то называвшегося Большим Сухаревским, хотя там многие дома были ниже, чем в Малом. Посмотрел на церквушку, которая уцелела, отстояли ее московские старики и богомольные старушки. Вспомнил, как несколько лет назад ломали высокую в своей строгости и красивую Сухаревскую башню, которая замыкала улицу по выходе ее на Садовое кольцо, как они, шустрая комсомолия, в пыли и грязи, помогали рабочим грузить на машины побитый кирпич, да толстые квадратные тяжелые бревна межэтажных и чердачных перекрытий, швыряли с хохотом и песнями в кузов кованные оконные решетки, били стекла на строгих вытянутых окнах, разрушая старый, уходящий навсегда мир, чтоб на его месте, как поется в главном гимне, самим построить скорыми темпами мир новый, в котором «кто был ничем, тот станет всем!». Борису и его друзьям, молодым и полным сил, хотелось, очень хотелось поскорее «стать всем», добиться своего утверждения на земле. Вспомнил, как тогда заодно чуть было не сравняли с землей и эту старинную церквушку Троица в Листах, которую, как рассказывала учительница по истории, возвели московские стрельцы полка Сухарева, откуда и пошли все названия...
Теперь он смотрел, прощаясь, на обновленную открытую Сретенку, которая уходила вдаль, пересекая Садовое кольцо, и дальше, под другим названием, расширяясь и становясь величественнее, пролегала к Рижскому вокзалу, бежала дальше за железнодорожный мост, превращаясь в загородное Ярославское шоссе...
Сердце у Бориса сжалось, потому что и он вдруг ощутил острое чувство горечи расставания, но высказать его не захотел, и торопливо обняв мать, сказал коротко:
– Ну, я пошел, мам!.. – Добавив оправдательно: – Опаздывать никак нельзя!
– Боренька, пиши... Сразу же дай знать, слышишь? – Мать вздыхала, утирая углом серого платка глаза. – Ненаглядный ты мой!..
– Ладно, мам! Обязательно, мам!
Подошел спасительный трамвай, и Борис вскочил на подножку. Помахал рукою и, подталкиваемый пассажирами, скрылся внутри вагона. В окно было видно, что мать стоит на тротуаре, не уходит, горестно смотрит на трамвай, утирая углом платка слезы, не замечая, что платок сполз на шею. Борис хотел крикнуть ей что-нибудь хорошее, обнадеживающее, да не успел. Трамвай дернулся и покатил по рельсам вперед, к сборному пункту, увозя Бориса Степанова в неизвестное будущее.
Сборным пунктом оказалась обыкновенная школа. К ней шли в одиночку и группами. У подъезда стояли двое мужчин в штатском с красными повязками на рукаве. У входящих они тщательно проверяли документы, сверялись с фотографией на паспорте и, лишь после этого, разрешали проходить внутрь. Борис подал свои бумаги. Один из дежурных показался знакомым. Среднего роста, плотный такой, чем-то похож на циркового борца, скуластое загорелое лицо и острые, с прищуром глаза. Но где они встречались, Борис так не мог припомнить. А мужчина сразу узнал его.
– А, Степанов! Поздравляю, в хорошую команду попал, – почти не глядя, лишь мельком зыркнув по документам, тут же вернул их. – Проходи!
Шагнув внутрь подъезда и открывая вторую высокую застекленную дверь, Борис за спиною услышал:
– Не узнал? Так это Борис Степанов с кабельного, лучший лыжник столицы, чемпион нашего района. Молодцы в военкомате, кадры подбирали, что надо!
Борису сразу в душе стало тепло от таких слов. Хорошо, когда тебя узнают.
В просторном фойе, на стене, где красовалась школьная стенгазета «Комсомолец» и фанерная доска объявлений, висел пришпиленный кнопками военный плакат, который Борис видел во многих местах: на улицах, на площадях, в метро, в автобусах, троллейбусах, у себя на заводе. С плаката смотрела строгая женщина с седыми волосами в красной одежде, подняв призывно руку вверх, а за спиной ее вставали, защищая гранеными штыками, невидимые бойцы. Во второй руке, протягивая ее вперед, женщина держала лист бумаги с текстом военной присяги. Вверху по всему плакату призывно алела крупная надпись: «Родина-мать зовет!» Сейчас этот плакат, это обращение Борис воспринял так, словно к нему лично обращалась Родина и ее облик был чем-то неуловимым похож на его мать, у которой тоже вот так же сполз на плечи платок, только не такой красный, а старенький, серый с цветами, купленный Борисом еще пять лет назад в свою первую получку.
Здесь же в фойе, сидя за столом, двое военных отмечали по списку прибывающих на сборный пункт, и отбирали документы, за исключением партийных и комсомольских билетов, да шоферских прав, и направляли в актовый зал.
В зале оказалось полно народу. Не одна сотня мужчин, главным образом молодых. Борис даже опешил. Какая же это особая спецгруппа? Тут в наличии добрый батальон. А люди все прибывали и прибывали. В зале было душно, хотя окна распахнуты настежь, плавали сизым облаком клубы табачного дыма, от которого першило в горле.