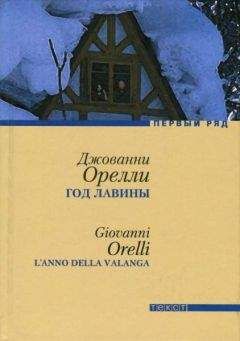Павел Лагун - Капитан Сорви-голова. Возвращение
— Вы — начальник лагеря?
— Я его заместитель, — держась одной рукой за край стола, с трудом ответил Ньюмен. — Начальник в отъезде.
— Я - офицер по особым поручениям премьер-министра Капской колонии сэра Милнера, капитан Роберт Смит. Это мой помощник, лейтенант Питер Логан. Вот мое удостоверение и предписание о передаче нам известной вам заключенной с особым статусом для дальнейшего препровождения ее в Преторию к фельдмаршалу лорду Китченеру. Роберт Смит протянул Ньюмену две аккуратно сложенные бумажки. Тот дрожащими руками развернул одну из них. Буквы заплясали перед глазами. Прочесть лейтенант Ньюмен ничего не смог и вернул документы, слегка при этом пошатнувшись.
— Распорядитесь сопроводить нас туда, — сказал капитан, засовывая бумажки в портмоне.
— Фибс! — закричал Ньюмен и снова пошатнулся. В глазах у него двоилось. Вошел и вытянулся во фрунт Фибс. — Проводи господ офицеров к этой… переодетой девке. Они ее забирают с собой. Фибс, а следом за ним офицеры скрылись за дверью. Ньюмен облегченно вздохнул и сел на стул, едва не промахнувшись. "Слава богу, не инспекция", — подумал он, наливая в стакан из бутылки остатки виски… Капитан Сорви-голова и Пиит Логаан вышли за сержантом Фибсом на территорию концентрационного лагеря. Лагерь был огорожен двумя рядами колючей проволоки, между которыми бегали свирепые псы. Над лагерем стоял многоголосый собачий лай. Часовые сидели в будках через каждые сто метров возле пулеметов, направленных стволами внутрь территории. Наверное, боялись побегов истощенных женщин и детей. Этот лагерь был самым крупным в Оранжевой республике. В нем заточили более четырех тысяч человек. Остальные четырнадцать были меньшей концентрации: по полторы-две тысячи. Пламенеющий закат лег на крыши нескольких десятков бараков, сколоченных кое-как из гнилых досок, совершенно не подогнанных друг к другу. В некоторых местах щели оказались величиной с палец, а то и больше. Но сейчас еще лето, а как же здесь жить зимой во время пронзительного ветра и холода? Или англичане надеются, что к этому времени никто уже не доживет?
Едва они вступили на грязную пыльную дорожку, ведущую вглубь лагеря, как из черного провала дверной прорези ближайшего барака показались двое солдат, волочащих за ноги труп молодой женщины. Голова ее со спутанными волосами бессильно болталась по запыленной красноватой земле. Длинная юбка задралась выше колен. Солдаты тащили мертвую женщину, как куль с мукой, вдоль барака и скрылись за углом. Жану Грандье стало не по себе. Муть давящим комом подкатилась к горлу. Жан даже остановился. Он взглянул на Логаана. У того побледнело лицо и сжались кулаки.
— Что, первый раз такое видите? — немного фамильярно спросил сержант Фибс. — Их тут каждый день по десятку подыхает, а то и больше. Закапывать устаем… — Молчать! — заорал на него Логаан, хватаясь за кобуру. Сорви-голова толкнул его в бок. Пиит опомнился и опустил руку. Они пошли дальше, следом за сержантом, который несколько раз опасливо оглянулся на Логаана. За вторым бараком в жухлой пыльной траве сидело несколько детишек лет 6–7 в грязной порванной одежде, исхудалых, со вспученными животами. Они испуганно взглянули на военных и хотели уползти в дверь. Но Логаан подойдя ближе, из вещевого мешка, который он нес с собой, стал раздавать им галеты. Дети сначала боязливо смотрели на печенье, а потом протянули к нему грязные ручонки. А одна девочка, хорошенькая и белокурая, даже сделала неумелый реверанс.
— Спасибо, господин офицер, — тихо пробормотала она, — мы очень кушать хотим. В глазах у Пиита Логаана стояли слезы. Он отдал детям все, что было у него в мешке. Сержант Фибс не посмел ничего сказать. Жан Грандье прекрасно понимал умом, что Пиит ведет себя неосторожно, но сердце его так же сжималось от гнева, боли и сострадания к невинным беспомощным детям, которых цивилизованные варвары лишили домов, уютных мягких постелей, согнали, как скот в один хлев, и морят голодом, чтобы их отцы и старшие братья перестали сопротивляться нашествию этих бандитов на родную землю. Они зашли в третий по счету барак. Сразу же в ноздри пахнуло смрадом. Даже широкие щели в досках не могли его развеять. Почти в полной темноте на двухъярусных нарах сидели и лежали вповалку десятки женщин всех возрастов. Здесь же копошились дети. Совсем маленькие, лет трех-четырех, сидели на руках матерей. Отовсюду раздавался сдавленный детский плач, успокаивающие женские голоса. В дальнем углу барака пели тихую протяжную песню. Слышался надрывный кашель и горестный стон. Видно, кто-то умер.
— Идите направо, — сказал Фибс, — там увидите дверь. Я подожду вас снаружи, здесь такая вонь! И он поспешно вышел из барака. Жан Грандье и Пиит Логаан двинулись в указанном направлении. На душе у обоих было тяжело и муторно. Зрелище, которое они наблюдали, могло бы вывести из равновесия человека еще не потерявшего остатки сострадания к людским бедам. Сколько их случалось на протяжении всей истории человечества. Рушились города, гибли империи. Люди безжалостно убивали людей. Ради своих разбойничьих, злобных корыстных интересов, они без зазрения совести тушили Божью искру одним ударом, одним выстрелом. А могли долго и жестоко пытать: каленым железом, колесованием или просто голодом и холодом. Какая это тонкая изощренная наука — уничтожать себе подобных, особенно слабых и беззащитных женщин и детей. Англичане в этой войне нашли новый метод. Его потом переймут и разовьют до таких масштабов, что то, чему ужаснулись Жан и Пиит, тогда покажется неумелой забавой начинающих дилетантов. Всего-то согнали в лагеря 100 тысяч и умерло в них "каких-нибудь" 26 тысяч, из них "всего" 22 тысячи детей. Разве это цифры?! Потом станут считать миллионами. И никто этому не ужаснется… Дверь оказалась выкрашенной в белый цвет. Она вела за капитальную перегородку, отделяющую дальнюю часть барака. За перегородкой слышался грубый мужской голос, выкрикивающий ругательства. И еще какие-то звуки, похожие на удары. Сорви-голова решительным движением дернул ручку двери на себя. Дверь со скрипом распахнулась, но человек, стоящий к ней спиной, этого не заметил. На нем были надеты галифе цвета хаки, вправленные в яловые сапоги. Но мундир отсутствовал. Одна белая исподняя рубаха с засученными рукавами и широкие подтяжки на плечах, поддерживающие галифе. Левая рука его висела на перевязи, и он усиленно "работал" одной правой, нанося кому-то, заслоненному им, методичные пощечины, при этом требуя у того ответа. Ответом были слабые стоны. Стонала женщина. Сорви-голова не мешкал ни секунды. Он подскочил к истезателю и ударил его ребром ладони по сонной артерии. Тот вскрикнул от боли и грузно свалился на пол. Сорви-голова взглянул ему в лицо и был немало удивлен, когда узнал Френсиса Барнетта. Все повторилось, как тогда, в купе поезда. И удар он нанес в то же самое место. Только тогда он спасал Фанфана. А сейчас? Жан перевел взгляд на того, кто был заслонен спиной Барнетта. Их взгляды встретились. Большие серо-зеленые глаза сидящей напротив девушки были наполнены слезами, болью и искорками уже светящейся радости и надежды на спасение. Лицо ее, в кровоподтеках и синяках, поначалу показалось некрасивым. Да и какая красота в избитом человеке? Девушка была привязана толстой бельевой веревкой по рукам и ногам к тяжелому дубовому стулу, прибитому ножками к полу. Но одежда на ней была мужская: длинные навыпуск брюки и порванная на груди серая рубашка, и если бы не округлость уже сформировавшейся груди, она вполне бы могла сойти за юношу-подростка. Тем более это сходство подчеркивали когда-то коротко стриженные светлые волосы, уже довольно отросшие и вьющиеся золотистыми кудряшками над ушами и на лбу. Что-то очень знакомое мелькнуло в памяти капитана Сорви-го-лова при виде этих золотистых завитков и этих больших серо-зеленых глаз. И они еще больше расширились, когда взглянули на Жана Грандье.