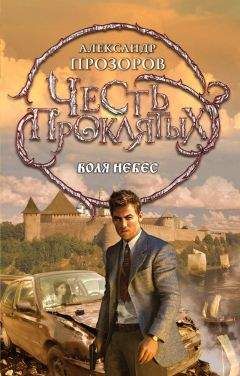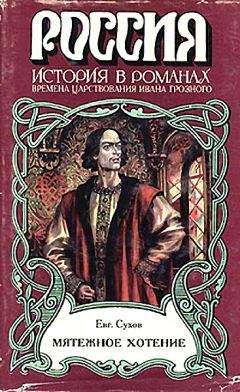Александр Прозоров - Царская сабля
– Улица супротив Никольской башни, – махнул рукой от реки парень. – Первый дворец Голицынский, а второй его…
– Благодарствую. – Басарга повернул в указанном направлении и через четверть часа, наконец, добрался до цели своего путешествия, постучав кулаком в разукрашенные гривастыми львами и зелеными цветами ворота.
– Кто там ныне? – почти сразу спросили изнутри.
– Боярский сын Леонтьев к князю Михайле Воротынскому прискакал! – торжественно объявил Басарга.
– Ты, может, и прискакал, да нужен ли ты князю-то? – недружелюбно поинтересовались изнутри.
– Я с отчетом об исполнении поручения княжеского, – обиделся Басарга.
– Ну, так бы сразу и сказывал, что по службе. – На воротах открылся глазок, устроенный прямо в зрачке одного из львов. – А то ходют тут гуляки всякие, похмелья дармового выспрашивают…
Вид боярина, похоже, окончательно успокоил привратника. Затвор грохнул, створка с глазком поползла вовнутрь.
– Скакуна своего сам к коновязи отведи, – ворчливо указал седой, но плечистый холоп, одетый в длинный тулуп поверх исподней рубахи. – Дворни нет ныне здесь. На пиру вся, в трапезной. Коли дело срочное, туда и ступай.
Басарга спорить не стал. Отпустил обе подпруги, отвел скакуна к бочке с водой и, оглядываясь по сторонам, подождал, пока тот напьется.
Княжеский дворец представлял собой огромный бревенчатый дом в три жилья, да еще и с «фонариками» в черепичной кровле. Два его крыла выступали вперед, к улице, образуя просторный двор с колодцем, крытыми коновязями и двумя сугробами, набросанными ближе к центру – видать, сюда сбрасывали убираемый со двора снег. Крыльцо на резных столбах в полтора человеческих роста поднималось сразу до уровня второго жилья и прикрывалось остроконечным шатром, в котором, похоже, были устроены скворечники.
В общем, жил князь Воротынский богато, и един дворец его мог вместить больше народу, нежели обитало во всем Кирилло-Белозерском монастыре.
Оставив коня возле яслей с сеном, боярский сын поднялся на крыльцо и вошел в дом, обширная прихожая которого освещалась масляными лампами, источающими вместе с дымом пряный гвоздичный аромат. Обуви здесь никакой не стояло – ни сапог, ни валенок, ни туфель, а потому разуваться Басарга не стал, двинулся дальше по ярким от множества свечей коридорам, ориентируясь на шум голосов и мужской смех. Мимо гостя несколько раз пробегали слуги с кувшинами, мисками и ведрами, но никакого внимания на чужака не обратили.
Полагая, что хозяин пирует именно там, куда носится дворня, боярский сын отправился за ними и через пару поворотов оказался в просторной четырехстолпной трапезной: потолок помещения примерно в сто на пятьдесят шагов поддерживали четыре толстые дубовые опоры. Справа и слева по зале тянулись забранные слюдой окна, в нескольких местах над пирующими висели люстры на сотню свечей каждая, а сам хозяин дворца восседал на небольшом возвышении напротив входа. От его покрытого красной скатертью стола тянулись в сторону двери столы поуже, застеленные белыми тканями. Скамьи тоже менялись от обитых бархатом до простых, жестких деревянных.
Гостей, что сидели в бобровых шапках и тяжелых шубах, Басарга мысленно определил как князей, гостей в тафьях и шитых суконных ферязях[17] – как бояр. «Ниже» знати – то есть ближе ко входу – пировали воины, одетые проще: некоторые в кафтанах и складчатых иноземных поддоспешниках, но большинство и вовсе в рубахах из шелка и атласа, опоясанные кушаками.
Место для себя Басарга определил без труда, ибо ни соболиной шубы, ни ферязи с золотом в его семье никогда не появлялось, но вот нарядный пурпуан или рубаху из самой дорогой ткани Леонтьевы могли позволить и отцу, и каждому из братьев.
Однако к князю боярский сын примчался не пировать, а об исполнении царского поручения отчитаться, и потому он решительно обогнул зал вдоль стены, остановился слева за спиной хозяина дома, лениво накалывающего кончиком ножа кусочки буженины, макающего ее в горчицу и отправляющего в рот.
Сидящий рядом гость, поминутно перемежая свою речь смехом и запивая ее вином, рассказывал, как намедни заглянул в баню проверить, хорошо ли натопили ее холопы, и застал внутри своих слуг вместе с попадьей за самым что ни на есть срамным занятием; и как та попыталась с перепугу выскочить в окошко, да там и застряла, седалищем внутри, а всем остальным наружу…
Басарга кашлянул, пытаясь привлечь внимание, но хмельные мужики оказались столь увлечены историей о том, как снаружи попадью заботливо кутали от мороза, а изнутри позорили всеми возможными способами, что не замечали ничего вокруг.
Гость перешел к повествованию о батюшке, коего в то самое время всячески отвлекали просьбами, покаяниями и угощениями. Боярский сын кашлянул снова и, наконец, решился.
– Здрав будь, княже! – громко произнес он. – Исполнил я твое поручение до конца и в точности и в том тебе отчитаться прискакал.
– Какое еще поручение, когда? – поморщился Михайло Воротынский. Шрам на его лице уже успел побледнеть и без общего загара был почти незаметен. – А-а, Басарга! Стой, молчи! Помню…
– Это, Миша… – Князь-рассказчик поднялся со скамьи и, покачиваясь, развел руками: – Прощения просим. Отлучиться надобно ненадолго.
– Угу… – Хозяин дома закрыл глаза, открыл, повернулся, положил ладонь Басарге на грудь: – Стало быть, возвратился? А епископ Даниил что при сем сказывал?
– Поклон просил передать.
– Поклон? – хмыкнул князь и тряхнул головой. – Поклон он мне передает, шельмец! Столько времени голову морочил, а теперича – поклон… Ну, и пусть будет поклон! Ты у нас воин храбрый, боярин Леонтьев, такой поклон токмо на радость мне выйдет, а не на хлопоты! Одна беда у тебя: тайну ты узнал царскую. Тебе она не по роду приходится. Тайны сии владельцев своих сжигают, ровно свечу восковую.
– Да что же это за тайна такая, княже? – не понял Басарга. – Мне никто ни о чем не говорил! Ни в монастыре, ни под Казанью.
– Да ты не печалься, боярин. Огонь, он ведь завсегда таков, что одних в пепел обращает, других же лишь закаливает, ровно клинок булатный. Эй, други мои! – Князь Воротынский поднялся на ноги, вскинул кубок. – Витязя храброго представить вам хочу! Того, что просил меня, словно о милости, с луком у бойницы его посадить, когда ноги отказали. Того, который в свой смертный час токмо что и мыслил, так о добре царском пекся, ему доверенном! Боярин Басарга ему имя, други! Так выпьем все, чтобы воинов таких храбрых земля русская и впредь рождала, милость Божию на люд православный проливая!
– Любо, любо! – зашевелились пирующие, берясь за кубки, чаши и кубки. Заботливые руки холопа вложили большой сосуд из чеканного серебра в пальцы Басарги еще до того, как тот успел опечалиться тем, что своего места за столом все же не имеет.