Рафаэль Сабатини - Заблудший святой
Однако меня подстегивало не только прилежание, как он воображал. Я был захвачен новизной тех предметов, с которыми знакомился, столь отличных от всего того, с чем мне было разрешено знакомиться до этих пор.
Затем последовали Тацит, а после него Цицерон и Ливий — двух последних я нашел менее увлекательными; затем Лукреций[51] — его «De Rerum Naturae»[52] оказалось весьма соблазнительным блюдом для аппетита моей любознательности.
Однако мне предстояло еще вкусить от того, что составляет славу и величие древних. Мое первое знакомство с поэтами состоялось через переводы Вергилия, над которыми работал мессер Каро. Он окончательно поселился в Пьяченце, куда, как говорили, вскоре должен был прибыть его принципал Фарнезе, ожидавший герцогского титула. И в свободное время от обязанностей, которые он исполнял на службе у Фарнезе, он трудился над своими переводами, и время от времени приносил в дом доктора вороха своих манускриптов для того, чтобы прочесть то, что было уже сделано.
Мне вспоминается, как он пришел туда в один из знойных августовских дней, когда я находился в доме мессера Фифанти уже около двух месяцев, в течение которых мой ум постепенно, однако довольно быстро раскрывался, подобно бутону, под солнцем новых знаний. Мы сидели в прекрасном саду позади дома на лужайке, под сенью тутовых деревьев, сгибавшихся под тяжестью желтых прозрачных плодов, возле пруда, в котором плавали водяные лилии.
Там стояла полукруглая скамья резного мрамора, и мессер Гамбара, находившийся у доктора в гостях, небрежно бросил на нее свою алую кардинальскую мантию, которую снял из-за жары. Он, как обычно, был в простом платье для прогулок, и если бы не перстень на пальце и не крест на груди, вы бы никогда не подумали, что перед вами священнослужитель. Он сидел подле своей мантии на мраморной скамье, а рядом с ним оказалась монна Джулиана, одетая во все белое, если не считать золотого пояса на талии.
Сам Каро читал стоя, держа в руках свой манускрипт. Напротив поэта стоял, прислонившись к солнечным часам, мессер Фифанти; его лысина блестела от пота, а глаза то и дело обращались в сторону красавицы жены, которая с таким скромным видом сидела на скамье возле прелата.
Что же касается меня, то я лежал, растянувшись на траве возле пруда, лениво водя пальцем по воде и поначалу не проявляя особого интереса. Жаркий день, плюс то обстоятельство, что мы только что сытно пообедали, в сочетании с гулким и несколько монотонным голосом поэта, оказывали на меня усыпляющее действие, и я опасался, как бы мне не заснуть. Однако через некоторое время, по мере того как голос чтеца окреп и декламация приобрела более живой характер, от этих страхов не осталось и следа. Сон слетел с меня окончательно, сердце учащенно билось, голова была в огне. Я уже не лежал, я сидел, завороженно слушая, никого и ничего не замечая, не слыша даже голоса чтеца, всецело захваченный удивительной, полной трагизма историей, о которой он повествовал.
Ибо то, что он читал, была четвертая книга «Энеиды», самая печальная из всех, душераздирающий рассказ о любви Дидоны к Энею, о том, как он ее покинул, о ее страданиях и смерти на погребальном костре.
Я слушал как зачарованный. Эта печальная история казалась мне более реальной, чем все, о чем я читал или слышал до этого времени; и судьба несчастной Дидоны растрогала меня так, словно я знал и любил ее сам; и задолго до того как мессер Каро дошел до конца, я безудержно рыдал, охваченный глубокой скорбью.
После этого я стал походить на человека, который отведал крепкого вина и чувствует, что душа его горит огнем, погасить который можно лишь упиваясь им вновь и вновь. В течение недели я прочел всю «Энеиду» от начала до конца и перечитывал ее снова. Затем последовали комедии Теренция, «Метаморфозы» Овидия и сатиры Ювенала. После того великолепия, которое открылось моему взору и моей душе в сочинениях светских авторов, меня уже не удовлетворяли писания отцов церкви и размышления над жизнеописаниями святых.
Я никак не могу понять, знала ли моя мать о том, какие инструкции получил Фифанти от Арколано по поводу моей особы. Но несомненно одно: она никак не могла себе вообразить, под каким влиянием я окажусь в скором времени; и еще менее могла она предполагать, какие разрушения вызовет это влияние во всем том, что я до той поры усвоил, и в тех решениях, которые принял я и которые она приняла за меня — по поводу моего будущего.
Чтение странным образом смутило и взволновало меня; так, наверное, чувствует себя человек, долго находившийся в темноте, а потом вдруг оказавшийся в ярком солнечном свете, который слепит его, так что, несмотря на свет, он чувствует себя еще более слепым, чем был прежде. Ибо процесс, который должен был быть постепенным, начинаясь с самого раннего возраста, занял не более нескольких недель.
Мессер Гамбара чувствовал ко мне какой-то странный интерес. Он представлял собой нечто вроде доморощенного философа, занимавшегося изучением человеческой натуры; на меня он смотрел как на диковинный человеческий экземпляр, над которым производится необыкновенный эксперимент. Я думаю, ему доставляло удовольствие способствовать этому эксперименту; и несомненно, он больше, чем кто-либо другой, и даже больше, чем чтение, способствовал освобождению моего ума.
Дело не в том, что от него я узнал больше, чем из других источников; а в том, в какую циничную форму облекал он свою информацию. Он имел обыкновение рассказывать мне о самых чудовищных вещах, причем с таким видом, как будто для нормального человека они не представляют ничего особенного, и, если они меня шокировали, это следовало отнести исключительно за счет моих понятий.
Так, именно от него я узнал некоторые неожиданные сведения, касающиеся Пьерлуиджи Фарнезе, который, как говорили, должен был стать нашим герцогом; на Императора уже давно со всех сторон оказывали давление, чтобы он отдал ему герцогскую корону Пармы и Пьяченцы.
Однажды, когда мы гуляли вместе в саду — синьор Гамбара и я, — я прямо спросил у него, какие основания у мессера Фарнезе для того, чтобы претендовать на герцогство.
— Основания? — спросил он и остановился, смерив меня холодным взглядом. Он коротко рассмеялся и снова двинулся вперед по аллее, а я пошел вслед за ним. — А разве он не сын папы и разве это не достаточное основание?
— Сын папы! — воскликнул я. — Но разве это возможно?
— Разве это возможно? — насмешливо повторил он. — Ну что же, я вам расскажу, синьор. Когда наш нынешний Святой Отец был кардиналом и находился в качестве легата в Анконе, он встретился там с некоей дамой по имени Лола, которая ему приглянулась. Он, в свою очередь, понравился ей — Алессандро Фарнезе был красивый мужчина, мессер Агостино. Она родила ему троих детей, из которых один умер, вторая — это мадонна Констанца, она теперь замужем за Сфорца из Сантафьоре, и третий — в сущности, это как раз первенец — и есть мессер Пьерлуиджи, нынешний герцог Кастро и будущий герцог Пьяченцы.


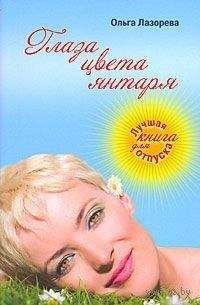
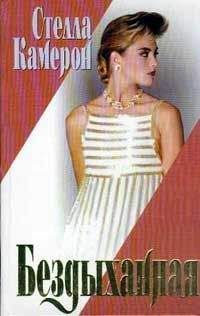
![Джек Вэнс - Глаза другого мира [Глаза верхнего мира, Глаза чужого мира]](/uploads/posts/books/66124/66124.jpg)